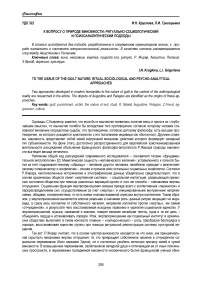К вопросу о природе виновности: ритуально-социологический и психоаналитический подходы
Автор: Круглова И.Н., Гоиеорьева Л.И.
Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются два подхода, разработанные в современном гуманитарном знании, к природе виновности в контексте антропологической реальности. В качестве истоков рассматривается спор между Августином и Пелагием.
Вина, наказание, жертва, природа зла, ритуал, р. жирар, августин, пелагий, з.фрейд, агрессия, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14083646
IDR: 14083646 | УДК: 322
Текст научной статьи К вопросу о природе виновности: ритуально-социологический и психоаналитический подходы
Так вот: Р.Жирар считает, что в основе чувства виновности находится не что иное, как принципиальная скрытость механизма жертвы отпущения: те, кто превращает собственное насилие в отчужденное сакральное переживание (боги наказали Эдипа), не в состоянии увидеть истинную причину своей и чужой виновности. В возвышенном переживании, свойственном западной душе и отличающем ее от иных психических пространств, в переживании трагедийной виновности человеческого бытия французский ученый обна- руживает наследство древних ритуальных практик (в том числе и каннибалистических) в развитии антропологической реальности.
В этом плане, по мнению Жирара, древнегреческий феномен трагического очищения от страстей, порожденный не чем иным, как эффектом линчевания , находится в разительной контрастности, например, по отношению к библейскому столкновению Иова с друзьями, пришедшими его утешать (а на деле – как раз обвинять!). Весь ход ветхозаветной поэмы, послужившей впоследствии не только основой для критики ортодоксального иудаизма, но и пророческим служением «благой вести», демонстрирует не катарсис, ожидаемый от единодушного вменения вины Иову, но полное его исчезновение. В страданиях Иова, как бы они ни были похожи на страдания Эдипа, обнаруживается процесс начавшейся десакрализации коллективного насилия, завершившейся в истории Христа. Иов и Иисус тоже разнятся между собой, но их объединяет то, что они, в отличие от Эдипа, не стыдясь , говорят о том, что они испытывают. Чувство виновности, по Жирару, на самом деле служит своего рода знаком, указывающим на ложные социокультурные порядки : всякий раз, когда преследователи заставляют свои жертвы идти «путями древних», эти пути принимают форму «божественного возмездия», с одной стороны, и «заслуженного наказания» – с другой.
В столь категоричной культурфилософской экспликации дает о себе знать прежде всего методологическая решимость французского антрополога остаться в границах ритуально-социологического прочтения жертвенного акта, когда понятия вины и греха – зла, в конечном счете – относят к тому, что «зарождается» исключительно на уровне символического бытия человека: зло – это то, что творит сам человек; нет никакого «метафизического» зла; мы в ответе за то, что делаем сами. Такое впечатление, будто ожил старый спор о природе зла и виновности между британским монахом Пелагием и Августином – спор, мимо которого так или иначе не проходил ни один крупный мыслитель и который не раз накалял умственную атмосферу европейской истории [1, с. 541–552 ]. Так как эта дискуссия задала некое фундаментальное для западной философии направление дискурса, проясним ее основные тезисы.
Пелагий, исходивший из представления о человеке как существе рациональном и самозаконном, отстаивал точку зрения, защищавшую, как он полагал, свободное человеческое произволение, его естественную свободу и, следовательно, ответственность за содеянное. Августин выводил и доказывал более сложную «конструкцию» умозаключений: безусловно, человек дает начало злу, через него оно входит в мир, но он дает начало злу, лишь отправляясь от зла, которое уже есть и непостижимым символом которого является наше рождение, изначально включенное в некую греховную «субстанцию» [3, с. 63–73 ]. Именно такую смысловую нагрузку несет на себе понятие «первородного греха», являющееся, по сути дела, рационализированным мифом [4, с. 373–512 ]. Почему в этом вопросе Августин, истовый христианин, предпочел остаться близким, по сути, манихейскому пониманию зла, в свою очередь, нисходящему к более древним, например, орфическим истокам? Потому что вопрос состоит в том, что мы теряем в так называемом процессе разоблачения мифа, в процессе редукции символики виновности к рационально постижимой теодицеи – не утрачиваем ли мы необходимую для ума глубину символической парадоксальности, всегда содержащую внутри одного мифа конфликт мифов (Эдип так же, как и Адам, виновен и невиновен одновременно), не выкидываем ли мы вместе с водой ребенка?
В процессе становления бытия зло, которое всегда уже есть , то есть включено в развитие, исчезает ли оно в результате нашего этического видения мира? Августиновская позиция привлекает внимание тем, что предлагает не-этическую концептуализацию зла, перенося акцент с моральности на экстериоризацию, отчуждение Духа, Истины, Откровения – инвестирование с помощью зла мирового движения, внутри которого созревает человеческий выбор, совершаемый в свободе. Августин пытается удержать в своей противоречивости две вещи: пришедшее из архаики признание вины (зла, греха) как начала объективного и квази-природного (боги, пославшие судьбу Эдипу; Змей, более древний, чем Адам) и эсхатологическое (!) преодоление вины в динамике спасения.
Если снова вернуться к теории Жирара, позитивистски-пелагиански толкующего природу человека, то заметим следующее: дело в том, что это со-присутствие изначального зла, порождающее неизменный «трагический остаток» во взаимоотношениях человека и мира, парадоксальным образом способствует формированию субъектного «порядка» бытия, основанного как раз на осознании неустранимого разрыва , раскола между личностным существованием и теми мощными силами, процессами, пульсациями, частью которых человек неизбежно себя обнаруживает и самораскрытие которых способствует движению антропологических трансформаций: «А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» (Рим. 5, 20).
На самом деле структура виновности вызвана не только эффектом отчужденного социального бытия, она также является частью самого субъекта, позволяющей ему встроиться в символическую сеть языка и социальных отношений. В нашем случае теория виновности может послужить способом «перехода» от со- циологически ориентированной концепции Р.Жирара к психоаналитической версии жертвенности, в центре которой находится судьба становящегося субъекта, складывающаяся в напряженной динамике с миром, в котором он рождается. Как известно, именно философско-антропологическими параметрами «возвращения к Фрейду» был ознаменован интерес к психоанализу в современной мысли. По мнению, допустим, П.Рикёра, Фрейда необходимо читать так же, как наши учителя читали Декарта и Канта. Теория Фрейда, конечно же, не является исчерпывающим объяснением природы культуры и общества, однако «не ограничена с точки зрения ее объекта, то есть человека, которого она хочет постичь в его целостности» [4, c. 188].
Особенность психоанализа в понимании соотношения между миром и человеком, всеобщим и единичным заключается не в рядо положенности социального и индивидуального, а в установлении взаимообра-тимости и континуальности одного и другого; по выражению С.Жижека: «Объективный» порядок социальной Субстанции существует лишь постольку, поскольку индивидуумы практикуют его в качестве такового, относятся к нему таковому» [Цит. по: 5, с. 192 ]. Чтобы подобраться к субъекту, а именно к тому, что лежит в основании его способности к страданию, необходимо совместить перспективы взглядов, учитывая и макромодели, описывающие поведение индивидуумов при их взаимодействии, и микрологию процесса означивания, дабы, наконец, понять: почему смещение коллективной агрессии становится возможно и какую роль в формировании субъективности оно играет? Жертва потому и «символизирует» собой переход от взаимного и разрушительного насилия к порядку и единодушному «пониманию», так как обеспечивает его и защищает; но обеспечивать и защищать его она может только благодаря прорастанию в динамике формирующейся субъективности.
Прежде всего, становится востребованной фрейдовская идея о нарциссической природе человеческого «Я» (желающего безопасности и требующего утешения) и, как следствие, интроецировании агрессии, которая, передвигаясь из «Оно», становится частью внутреннего мира, авторитетом «Сверх-Я» или совестью, осуществляющей по отношению» к «Я» такую же готовность к агрессии, какую «Я» охотно удовлетворило за счет других индивидов. Востребованным нам кажется и то, что «идея человека» в концепции Фрейда проистекает из его общей теории генезиса культуры – теории, использующей три модели в интерпретации культуры: «топологическую» (дифференциация инстанций «Оно» – «Я» – «Сверх-Я»), «генетическую» (роль детства и филогенеза) и «экономическую» (понимание культуры как некоего баланса процессов либидозных «инвестиций» и «контринвестиций), но при этом (не будем забывать!) подчиняющей все генетические и частные толкования «топико-экономической» модели объяснения.
Суть генетического подхода в контексте топико-экономической интерпретации Фрейда заключается в изучении истоков религии, искусства и морали исходя не из объекта , но из экономической функции , которую они играют в структуре антропологической реальности, поддерживая ее в равновесии замещенных удовольствий и компенсаций, в балансе жертв и влечений. Суть культуры, по Фрейду, в конфликте между запретом и влечением, между импульсивными позывами человека и стремлением людей объединяться в группы, в единое социальное тело, основанное на принципе либидинозной зависимости человека от бытия другого.
Решение конфликта Фрейд, так же как и Жирар, видит в способности человека к жертвенному акту, но в отличие от Жирара истолковывает его не как социальную матрицу коммуникативных связей человека. Поскольку источник страдания – в нарциссической природе человека, проявляющей себя как система взаимообмена между «принципом удовольствия» и «принципом реальности», постольку способность к жертве проистекает из устройства самого психического пространства, однако существующего в залоге инвестиции и контринвестиции (то есть в границах исключительно социальных аспектов культуры, например табу как системы наказаний).
Культура в качестве источника социальных запретов, с одной стороны, продуцирует суть самого конфликта, с другой – способствует возможности примирения с жертвами как с чем-то неизбежным и выработке различных форм компенсаций за понесенные нарциссической природой человека ущемления. Однако само вытеснение и уклонение от запретов, так сказать, их переработка, в результате которой происходит наращивание смысловой энергии, возможна только вследствие дифференцированно устроенного психического пространства. Как мы видим, топологическое и экономическое объяснения у Фрейда действительно совпадают. Проистекающая отсюда интерпретация состоит в том, что жертва – это одновременно и урон (насилие), но благодаря этому и компенсация, замещение (смысл). Способность человека к жертвенному акту – это способность обменивать смысл «на жизнь», обращать топологическую структуру «Я» в историю «Я», оборачивать зло во благо, совершая символический обмен между принципом удовольствия и принципом реальности, иногда обрекая себя на б о льшее страдание, чтобы в конце концов обрести б о льшее благо. По-видимому, то, что люди называют «судьбой», как раз существует в этом символическом пространстве искусства жизни и искусства умирания (что есть одно и то же), являя собой искусство быть человеческим существом.