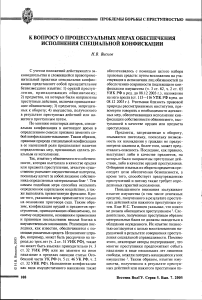К вопросу о процессуальных мерах обеспечения исполнения специальной конфискации
Автор: Висков Н.В.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Проблемы борьбы с преступностью
Статья в выпуске: 7, 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14972582
IDR: 14972582
Текст статьи К вопросу о процессуальных мерах обеспечения исполнения специальной конфискации
С учетом положений действующего законодательства и сложившейся правоприменительной практики специальная конфискация представляет собой принудительное безвозмездное изъятие: 1) орудий преступления, принадлежащих обвиняемому; 2) предметов, на которые были направлены преступные действия, включая принадлежащие обвиняемому; 3) предметов, запрещенных к обороту; 4) имущества, полученного в результате преступных действий или нажитого преступным путем.
По мнению некоторых авторов, специальная конфискация в настоящее время в определенном смысле призвана заменить собой конфискацию-наказание. Таким образом, правовая природа специальной конфискации в ее нынешней роли предполагает наличие определенных мер, призванных сделать реальным ее исполнение.
Так, изъятие у обвиняемого его собственности, которая выступала в качестве орудия или предмета преступления, зачастую существенно ущемляет имущественные интересы, поскольку влечет за собой лишение собственника определенных материальных благ '. Тем самым подобная мера способна оказывать определенное карательное воздействие, а также выполнять превентивную функцию. Кроме того, указанная мера применяется только на основании приговора суда. Таким образом, конфискация орудий и предметов преступления, принадлежащих обвиняемому, по своему содержанию, основаниям применения и правовым последствиям весьма близка к имущественным наказаниям. Реализация последних, как известно, обеспечивается с помощью различных средств. Исполнение штрафа, например, может быть рассрочено на период до трех лет (ч. 2 ст. 31 УИК РФ), также он может быть взыскан принудительно (ч. 3 ст. 32 УИК РФ) или же заменен на иное наказание в пределах санкции статьи Особенной части УК РФ (ч. 5 ст. 46 УК РФ, ч. 2 ст. 32 УИК РФ). Исполнение конфискации как вида имущественного наказания также обеспечивалось с помощью целого набора правовых средств: путем возложения на участвующих в исполнении лиц обязанностей по обеспечению сохранности подлежащего конфискации имущества (ч. 3 ст. 62, ч. 2 ст. 65 УИК РФ в ред. до 08.12 2003 г.), наложения на него ареста (ст. 115—116 УПК РФ в ред. до 08.12 2003 г.). Учитывая близость правовой природы рассматриваемых институтов, правомерно говорить о необходимости адекватных мер, обеспечивающих исполнение конфискации собственности обвиняемого, выступавшей в качестве орудия или предмета преступления.
Предметы, запрещенные к обороту, изымаются постольку, поскольку возможность их нахождения у граждан не предусмотрена законом и, более того, может представлять опасность. Последние, как правило, выступают либо в качестве предметов, на которые были направлены преступные действия, либо в качестве орудий преступления. Отбирание изъятых из оборота предметов преследует цели обеспечения безопасности, а кроме того, способствует предупреждению преступлений и потому также требует определенных гарантий исполнения.
Повышенного внимания заслуживает изъятие имущества (в том числе денежных средств), полученного в результате преступных действий или нажитого преступным путем. Еще Н.С. Таганцев указывал, что никто не должен обогащаться преступлением2. Следовательно, полученные преступным образом материальные блага не должны находиться в обладании осужденного. Их изъятие полностью согласуется с целью восстановления нарушаемой в результате совершения преступления социальной справедливости. Помимо этого, некоторые авторы подчеркивают, что многие преступники предпочитают отбыть наказание в виде нескольких лет лишения свободы, нежели потерять находящееся у них имущество 3. Таким образом, изъятие имущества, полученного в результате преступных действий или нажитого преступным пу- тем, способствует достижению целей правосудия и может выступать в качестве действенного предупредительного средства, выполняя функции как частной, так и общей превенции.
Также особая роль этой меры во многом связана с новыми направлениями в борьбе с организованной преступностью и в первую очередь с необходимостью разрушения ее экономической базы. Существующих уголовно-правовых средств для этого сейчас явно недостаточно. Разрыв между максимальным размером единственного в настоящее время имущественного наказания — штрафа и размерами финансовых активов преступных группировок может достигать нескольких порядков4. В итоге едва ли не единственным правовым механизмом, направленным на решение вышеуказанной задачи, в настоящее время являются соответствующие нормы УПК РФ.
Кроме того, наличие мер, обеспечивающих изъятие орудий преступления и (или) преступно приобретенного имущества, предусмотрено целым рядом международных договоров, участником которых является Российская Федерация. Часть этих документов уже ратифицирована и, таким образом, обязательна для исполнения Российской Федерацией. В частности, на подобные меры указывается в ст. 23 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01 1997 г., ст. 3 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении и конфискации доходов от преступной деятельности от 08.11 1990 г., ст. 12 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональ-ной организованной преступности от 15.11 2000 года. Названные договоры требуют от государств-участников принятия на национальном уровне законодательных и иных мер, направленных на предотвращение неправомерных действий с вышеуказанным имуществом.
Таким образом, поставленный вопрос о мерах, обеспечивающих исполнение специальной конфискации, более чем просто актуален. Часть этих мер описывается непосредственно в действующем уголовно-процессуальном законодательстве. Вместе с тем в научных публикациях последнего времени этим вопросам не уделяется должного внимания. Как правило, рассматриваются частные моменты, не затрагивающие всей системы уголовно-процессуальных мер обеспечения исполнения специальной конфискации:
ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ особенности наложения ареста на счета, ценные бумаги и прочее5. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть комплекс таких средств в целом, не останавливаясь подробно на достоинствах и недостатках каждого из них.
Одной из наиболее важных обеспечительных мер, безусловно, является арест имущества (ст. 115—116 УПК РФ). Главное его достоинство заключается в том, что он может быть наложен на любое имущество, включая деньги и ценные бумаги. Арест выступает либо в форме правового запрета, состоящего в ограничении полномочий собственника или владельца, либо в форме изъятия имущества из фактического обладания указанных субъектов с передачей его на хранение какому-либо третьему лицу (ч. 2 ст. 115 УПК РФ). В результате собственник либо владелец частично или полностью лишается возможности распоряжаться арестованным имуществом, а иногда и пользоваться им. Тем самым обеспечивается его сохранность и в итоге — возможность изъятия в порядке исполнения специальной конфискации.
Вместе с тем следует отметить, что по смыслу действующей редакции ст. 115—116 УПК РФ арест налагается только на имущество, которое потенциально может быть признано полученным в результате преступных действий или нажитым преступным путем. Как можно заметить, арест имущества не способен обеспечить исполнение специальной конфискации в том случае, если речь идет о предметах, изъятых из оборота, орудиях преступления и прочем.
Можно ли такую ситуацию рассматривать как пробел? Полагаем, что оснований для этого нет. В таком случае в действие вступают иные правовые механизмы, уже предусмотренные действующим уголовно-процессуальным законодательством.
Изменение места специальной конфискации в системе уголовно-процессуальных мер позволяет по-новому взглянуть на содержание ст. 82 УПК РФ. С одной стороны, указанная статья всего лишь определяет порядок хранения вещественных доказательств и тем самым обеспечивает возможность их использования в процессе доказывания6. С другой — специфика действующего законодательства такова, что специальной конфискации подлежат лишь предметы, признанные вещественными доказательствами по делу. В данном контексте ст. 82 УПК РФ можно рассматривать не только как меру обеспече- ния непосредственности исследования доказательств в судебном разбирательстве (ст. 240 УПК РФ), но и как гарантию того, что специальная конфискация будет исполнена.
Согласно ч. 1, 5 ст. 82 УПК РФ вещественные доказательства, как правило, хранятся при уголовном деле и при передаче последнего от одного компетентного органа другому передаются вместе с ним. Такой порядок подразумевает изъятие предметов, признанных вещественными доказательствами, из фактического обладания лиц, у которых они находились. В соответствии с Инструкцией о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами № 34/15 от 18.10 1989 г. хранение вещественных доказательств должно осуществляться с соблюдением определенных условий. Под этими условиями подразумеваются, в частности, место хранения (сейф, специально оборудованная комната, склад и т. п.), обязательное наличие ответственного за хранение лица, условия доступа и прочее. Подобный порядок гарантирует сохранность указанного имущества до вступления приговора в законную силу и, соответственно, обеспечивает исполнение специальной конфискации.
Однако особенно заметным это обстоятельство становится при анализе норм ст. 82 УПК РФ, регламентирующих порядок действий по отношению к предметам, которые в силу каких-либо причин не могут храниться при уголовном деле. В таком случае наряду с мерами, обеспечивающими непосредственность исследования доказательств (например, приобщение к делу образца, достаточного для сравнительного исследования), принимаются меры по реализации таких предметов с последующим зачислением вырученных средств на депозит органа, принявшего соответствующее решение. Следовательно, действующее законодательство наряду со специальной конфискацией предметов допускает и изъятие их стоимости подобно тому, как этот вопрос решен в законодательстве ряда зарубежных государств7.
Кроме того, принятое в соответствии со ст. 82 УПК РФ Положение о хранении и реализации предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднительно8 (далее — Положение), предусматривает возможность заключения договоров имущественного страхова ния вещественных доказательств. Целями заключения данных договоров согласно Положению является «обеспечение сохранности вещественных доказательств, возмещение убытков в случае их утраты (гибели), недостачи или повреждения» (абз. 4 п. 4).
Такое решение позволяет избежать ряда проблем. Во-первых, подобный порядок гарантирует права собственника, которому могут быть возвращены средства, полученные от реализации вещественных доказательств, а также в необходимых случаях возмещены убытки. Во-вторых, обеспечиваются интересы государства при решении вопроса о судьбе вещественных доказательств.
Немаловажное значение имеет процессуальное оформление вещественных доказательств: они осматриваются и приобщаются к уголовному делу (ч. 2 ст. 81 УПК РФ). Указанные действия оформляются соответствующими протоколом и постановлением (Приложения №51, 52 к УПК РФ), в которых указываются сами предметы, признанные вещественными доказательствами, а также их индивидуальные признаки. В первую очередь фиксация указанных сведений имеет доказательственное значение. Вместе с тем это в определенной степени гарантирует, что такие предметы не будут, например, заменены иными в случае возврата имущества законному владельцу в порядке, установленном подп. «б» п. 1. ч. 2 ст. 82 УПК РФ, и т. д. То есть процессуальная форма также способна служить цели обеспечения исполнения специальной конфискации.
Таким образом, в распоряжении правоприменителя находится достаточный комплекс процессуальных средств, способных обеспечить как исполнение специальной конфискации указанного в законе имущества, так и — в определенных случаях — изъятие его стоимости.
Вместе с тем состояние рассматриваемых обеспечительных мер и практика их применения далеки от идеала. Например, согласно ч. 3 ст. 35 Конституции РФ безвозмездное изъятие имущества у собственника допускается только на основании судебного решения. Это положение применимо и к вещественным доказательствам. Следовательно, сумма, полученная от реализации предметов, признанных вещественными доказательствами, должна обращаться в доход государства на основании приговора. Однако в ст. 299 УПК РФ этот вопрос не решен: в п. 12 ч. 1 говорится лишь о судьбе вещественных доказательств, но не их стоимости. Налицо хотя и незначительный, но все же пробел в правовом регулировании.
Помимо сказанного, по смыслу ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество, полученное в результате преступных действий или нажитое преступным путем, допускается с момента появления в уголовном деле обвиняемого или подозреваемого. Однако до этого момента имущество уже может быть сокрыто, растрачено и т. д. Не решает этой проблемы и ст. 82 УПК РФ — п. 3.1 ч. 2, регламентирующий порядок хранения вещественных доказательств в виде названного имущества, всего лишь содержит отсылку к ст. 115. В итоге органы дознания и следствия часто оказываются лишены возможности действовать достаточно быстро с тем, чтобы в будущем обеспечить исполнение специальной конфискации. Но в то же время существует диаметрально противоположная проблема: иногда соответствующие решения принимаются компетентными лицами слишком поспешно, что приводит к неблагоприятным последствиям.
Думается, вышеуказанные сложности возникают в результате того, что в УПК РФ не урегулированы основания наложения ареста на имущество: ст. 115—116 УПК РФ указывают только на цели его применения. Попытка сделать это была предпринята в Модельном уголовно-процессуальном кодексе для государств-участников СНГ9. Статья 274 указанного документа в качестве основания наложения ареста называла необходимую совокупность доказательств, дающую достаточные основания полагать, что подозреваемый, обвиняемый или другое лицо, у которого находится имущество, могут скрыть, испортить или издержать имущество, на которое может быть обращено взыскание. Хотя подобная формулировка, на наш взгляд, не способствовала необходимой эффективности применения обеспечительных мер 10, сама идея введения такой нормы в уголовно-процессуальное законодательство заслуживает внимания. Однако это предложение не получило дальнейшего развития и не нашло своего отражения в УПК РФ.
На практике отсутствие соответствующей нормы зачастую ведет к тому, что арест налагается исключительно из формальных соображений, без учета фактических обстоятельств дела и возможных негативных последствий. Например, постановлением судьи Кировского районного суда г. Волгограда от
26.03 2004 г., спустя лишь два дня после возбуждения уголовного дела, был наложен арест на все банковские счета одного из предприятий. Основанием явилось предположение, что на них находятся средства, полученные в результате преступных действий. Конкретные суммы в постановлении не указывались, и арест был наложен «с запасом» на все находившиеся на счетах денежные средства. В результате работа этого предприятия была фактически парализована.
С учетом вышесказанного, думается, необходимо найти некую «золотую середину»: сочетать оперативность применения обеспечительных мер с их обоснованностью, достаточностью и необходимостью защиты прав собственника или владельца. Прежде всего, имеется в виду принятие уполномоченными лицами решения об изъятии имущества в качестве вещественного доказательства или в ходе наложения ареста. Определенным ориентиром в данном направлении может служить правовая позиция Конституционного суда РФ, сформулированная им в Определении № 59-0 от 15.02 2005 года. Здесь, в частности, указывается на необходимость учета следующих обстоятельств: тяжести преступления, особенностей самого имущества, в том числе его стоимости, значимости для собственника или владельца и общества, возможных негативных последствий изъятия и иных обстоятельств. Во всяком случае, указывает Конституционный суд, изъятие имущества у собственника или владельца, в том числе в связи с приобщением его к уголовному делу в качестве вещественного доказательства или в связи с наложением на него ареста, предполагает обоснование того, что иным способом обеспечить решение стоящих перед уголовным судопроизводством задач невозможно.
Кроме того, множество проблем порождает большое количество отсылочных и бланкетных норм в числе регламентирующих порядок хранения вещественных доказательств и наложение ареста: подп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 82, подп. «б» п. 2 ч. 2 ст. 82, подп. «а» п. 4 ч. 2 ст. 82, ч. 3 ст. 82, ч. 4 ст. 115, ч. 4 ст. 116 УПК РФ.
С одной стороны, использование такого приема позволяет детально урегулировать множество вопросов, сохраняя стабильность уголовно-процессуального закона. Вместе с тем применение подобных законодательных конструкций влечет за собой ряд сложностей.
В частности, это требует от работников правоохранительных органов глубокого зна- ния не только уголовно-процессуального, но также и гражданского, гражданско-процессуального законодательства, соответствующих подзаконных актов.
Далее, некоторые бланкетные нормы в настоящее время остаются «пустыми», то есть предусмотренные ими нормативные акты до сих пор не приняты. Так, вышеуказанное Положение решает только общие вопросы. Наряду с этим ч. 3 ст. 82 УПК РФ предусматривает принятие Правительством РФ положений, определяющих специальные условия хранения, учета и передачи отдельных категорий вещественных доказательств (наркотических средств и психотропных веществ, оружия и боеприпасов, культурных ценностей и др.). Однако указанные подзаконные акты до настоящего времени не разработаны и не утверждены. Исключение составляет, пожалуй, только предусмотренное п. 3 ч. 2 ст. 82 УПК РФ Положение о направлении на переработку или уничтожение изъятых из незаконного оборота либо конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 11.
Также на законодательном уровне не решен вопрос о порядке совершения действий по погашению ценных бумаг, на которые наложен арест, выплате по ним доходов, их конвертации, обмену и прочем, как это указано в ч. 4 ст. 116 УПК РФ.
Таким образом, деятельность по совершенствованию обеспечительных мер исполнения специальной конфискации и повышению эффективности их применения может и должна быть продолжена как на теоретическом, так и на практическом уровнях. Как минимум, требуется значительный объем нормотворческой работы, направленной на устранение пробелов в правовом регулировании, а также мероприятия, ориентированные на повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов.
Список литературы К вопросу о процессуальных мерах обеспечения исполнения специальной конфискации
- Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Часть общая, Тула, 2001. С. 359.
- Игнатов А.Н. Некоторые аспекты реформирования уголовного законодательства//Журнал российского права. 2003. № 9. С. 25;
- Милинчук В.В. Актуальные вопросы совершенствования института конфискации//Государство и право. 2004. № 7, С. 37.
- Алексеева Д.Г. Арест денежных средств на банковском счете и приостановление операций//Преступность в разных ее проявлениях и проблемы организованной преступности. М., 2004. С. 213-217;
- Аршба Г.В., Гирько С.И., Николюк В.В. Вопросы наложения ареста на имущество//Юридический консультант. 2004. № 11. С. 21-39;
- Багаутдинов Ф.Н. Наложение ареста на имущество и ценные бумаги по УПК РФ//Юрист. 2003. № 1.С. 41-47;