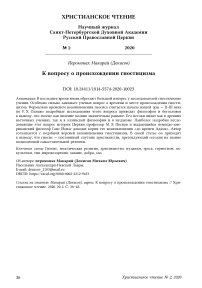К вопросу о происхождении гностицизма
Автор: Денисов Михаил Юрьевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 2 (91), 2020 года.
Бесплатный доступ
В последнее время вновь обретают большой интерес у исследователей гностические учения. Особенно сильно занимает ученых вопрос о времени и месте происхождения гностицизма. Формально временем возникновения гносиса считается начало нашей эры - II-III века по Р. Х. Однако подробные исследования этого вопроса приводят философов и богословов к выводу, что гносис как явление возник значительно раньше. Его истоки видят как в древних восточных учениях, так и в эллинской философии и в иудаизме. Наиболее подробно исследовавшие этот вопрос историк Церкви профессор М. Э. Поснов и выдающийся немецко-американский философ Ганс Йонас доводят корни его возникновения «до времен Адама». Автор соглашается с подобной версией возникновения гностицизма. В своей статье он приходит к выводу, что гносис - постоянный спутник христианства, претендующий сегодня на звание полноценной самостоятельной религии.
Гносис, гностическая религия, христианство, иудаизм, ересь, герметизм, оккультизм, тип мировоззрения, знание, добро, зло
Короткий адрес: https://sciup.org/140249005
IDR: 140249005 | DOI: 10.24411/1814-5574-2020-10023
Текст научной статьи К вопросу о происхождении гностицизма
Об авторе: иеромонах макарий (Денисов михаил Юрьевич)
Насельник Александро-Невской Лавры.
Ссылка на статью: Макарий (Денисов), иером. К вопросу о происхождении гностицизма // Христианское чтение. 2020. № 2. С. 36–43.
KhRiStiAnSKoye chteniye [christian Reading]
Scienti^c JournalSaint Petersburg ^eological Academy Russian orthodox church
no. 2 2020
Hieromonk Makary (Denisov)
to the issue on the origin of Gnosticism
Cenobite of the Alexander Nevsky Lavra.
Вопрос происхождения гностицизма чрезвычайно сложен. Ведущий современный отечественный исследователь многочисленных древних источников, претендующих на именование «гностицизмом», А. Л. Хосроев отмечает, что «понятие „гно-стики“ (γνοστικοι) в значении „христианские еретики особого толка“ впервые появляется в наших источниках не ранее последней четверти II в.» [Хосроев, 2016, 131]. Другой современный отечественный исследователь — К. В. Сергеев из Института РАН, пишет: «В своем узкотерминологическом значении гностицизм возникает вслед за христианством, в I в. н. э. Традиционно он считается элементом раннехристианской культуры, так как в гностических текстах в роли Спасителя, открывающего человеку тайны самопознания, выступает Иисус» [Сергеев, 2002, 89]. Указывая время возникновения гностицизма, К. В. Сергеев, однако, подчеркивает, что это относится к узкотреминоло-гическому значению понятия «гностицизм». Тем самым ученый оставляет открытой возможность перенесения времени возникновения гностицизма в широком смысле понимания этого термина к гораздо более раннему времени. В этом, впрочем, нет ничего необычного, потому что всякое идеологическое течение, тем более такое устойчивое, как гностицизм, речь о котором мы продолжаем вести и сегодня, две тысячи лет спустя, как правило, вызревает задолго до своего формального возникновения.
Начало нашей эры было временем чрезвычайно сложным. Тогда оно не именовалось началом, но представляло собой многовековой затянувшийся шлейф кризиса европейской культуры. Падения царств, создание и распад огромных империй неизбежно сопровождались поисками новых смыслов человеческого существования. Александр Македонский предпринял грандиозную попытку объединения Запада и Востока. Римская империя, в свою очередь, попыталась объединить достижения греческого и латинского мировоззрений. В этих идеологических столкновениях Востока и Запада, Юга и Севера начали складываться многочисленные течения и школы. Наступила эпоха величайшего синкретизма. Лучшие умы этой эпохи вырабатывали доктрины, каждая из которых претендовала на всеобъемлющее мировоззрение. В философии менялось представление о природе человека, о его «самости» [Светлов, 2016]. В это время возникли такие системы, как герметизм, митраизм, неопифагореизм, неоплатонизм, а также гностицизм, христианство и множество других менее значительных учений. Как пишет в монографии «Гнозис и христианство» профессор Р. В. Светлов, «Второй и третий века по Р. Хр. — это время, когда языческая античность оказалась на грани кризиса. Кризиса не только внутреннего (по крайней мере, сама античность не ощущала его как внутренний), но и внешнего. Из ничего возникшие ничем поначалу вроде бы не выделявшиеся среди многочисленных культов умерших общины христиан вдруг распространились по всему Римскому государству, и христианство, выйдя из небытия безвестности, превратилось в религию мирового значения» [Светлов, 1998, 12].
Христианство, таким образом, само называвшееся в первые века нашей эры «на-зорейской ересью», победило не только учение гностиков, но и сто других «ложных учений» по классификации свт. Иоанна Дамаскина. То, что христианство победило в этой невероятной гонке мировоззрений, — факт необычайной важности. Однако победа эта представляется все-таки неполной, поскольку гностицизм, являвшийся на рубеже эр одним из наиболее опасных соперников христианства, не сложил своего оружия до сих пор. Историк философии и науки из Новосибирска Е. В. Афонасин пишет: «В последнее время гносис как оккультный „тип мировоззрения“ вновь приобретает популярность. Трудно сказать, что явилось основной причиной такого положения дел. Возможно, это результат чрезвычайной публичности, которую получила почти детективная история о неожиданном и счастливом обретении в 1945 г. корпуса гностических писаний. А может быть, дело обстоит прямо противоположным образом: гносис оказался в чем-то созвучным современной эпохе» [Афонасин, 2011, 83–84].
Возможно, Е. В. Афонасин вполне прав: сегодня, действительно, интерес к гностицизму чрезвычайно высок. В связи с этим стоит упомянуть о том, что 11 августа 2007 г. в Новосибирском государственном университете состоялся круглый стол по теме
«Происхождение и сущность гностицизма», в котором участвовали известные отечественные ученые: Е. В. Афонасин, А. А. Каменских, С. В. Месяц и другие. Следует также отметить и большое количество публикаций, посвященных гностицизму, как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе. Тем не менее, нельзя не обратить внимания и на то, что писал примерно за сто лет Е. В. Афонасина другой отечественный исследователь гностицизма — М. Э. Поснов: «Гностицизм чрезвычайно живуч. Следы его существования указывают и в Средних веках, и в Новом времени, и в XIX в., и в XX столетии» [Поснов, 1917, VIII]. «С половины XIX в. изучение гностицизма становится на вполне реальную историческую почву. Начинается тщательное изучение источников гностицизма. Толчком к этому послужили новые открытия. В половине XIX в. были открыты и изданы некоторые гностические сочинения, как Pistis Sophia, книги Jeû и некоторые другие, и Philоsophumena Ипполита» [Поснов, 1917, XLVII].
Таким образом, мы вынуждены отметить, что гностицизм неотступно следует за христианством все эти две тысячи лет. Соответственно, совсем не случайно Е. В. Афонасин относит укоренившееся представление о том, что гностицизм — это «христианская ересь», к своеобразному «„штампу“ и считает это одним из стереотипов, который пора разрушить взвешенной научной критикой. Он полагает, что гностицизм — это отдельный тип мировоззрения, который лег в основу самостоятельной мировой религии, отличной от иудаизма и христианства» [Афонасин, 2011, 84]. Так же и «основоположники современных гностических исследований, такие как Ганс Йонас и Гиллес Квиспел (Jonas, 1963; ^ispel, 1951), настаивали на том, что гностицизм — это отдельная мировая религия, сравнимая по историческому значению с иудео-христиан-ством, исламом и буддизмом» [Афонасин, 2008, 5]1. Посвященная гностицизму книга одного из наиболее выдающихся исследователей этого явления немецко-американского философа Ганса Йонаса так и называется: ^e Gnostic Religion (1958). В 1998 г. она была издана на русском языке под названием «Гностицизм», с весьма характерным дополнением «Гностическая религия».
Неужели гностицизм, наряду с христианством и мусульманством, может быть и в самом деле возвышен до вполне самостоятельной религии? Или за этим скрывается всего лишь попытка нынешних ученых подчеркнуть невероятную значимость этого явления для религиозной жизни? Сразу же ответить положительно на второй вопрос мешает следующее заявление русского историка христианской Церкви М. Э. Поснова, сделанное уже более ста лет назад во введении к его фундаментальному исследованию гностицизма: «Гностицизм представлял собою не просто христианскую ересь, а целое сложное движение… религиозного характера, даже его можно назвать прямо религией: он выражал собою самую сокровенную думу всего языческого мира последних столетий перед рождеством Христовым — как избавить человека от бедствий его земной жизни и спасти его» [Поснов, 1917, I]. Здесь мы снова видим утверждение о том, что гностицизм «можно назвать прямо религией». Более того, М. Э. Поснов пишет: «Во Франции, в Париже, существует своеобразное гностическое церковное общество, которое носит довольно претенциозное название „église gnostique de France“. В §§ 3 и 5 этой „гностической церкви Франции“ говорится: “гностицизм исповедует, согласно своему наименованию, что истинная религия есть чистое знание“» [Поснов, 1917, IX]. В наши дни такая же церковь существует в США. В таком случае применение к понятию «гностицизм» определения «ересь» может быть принято лишь в первоначальном смысле самого понятия «ересь»; ересь — это всего лишь иное учение, от греческого αἵρεσις — выбор, направление, учение, школа. Так, апостол Павел говорит, что до своего обращения ко Христу он «жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению (αἵρεσιν)» (Деян 26:5).
Прп. Иоанн Дамаскин в своем «Источнике знания» говорит соответствующим образом об источнике всех ересей, полагая для этого четыре корня: варварство, скифство, эллинство, иудейство. Причем первый же корень, варварство, согласно прп. Дамаскину, берет начало «от дней Адама» [Иоанн Дамаскин: Источник знания, 122]. Гностиков же свт. Иоанн относит к последователям Симона мага и описывает их «ересь» следом за николаитами, склонявшими народ к бесстыдству. Преподобный отец пишет: «Гностики: приняли те же ереси, но больше всех этих ересей с неистовством совершают бесстыдные дела. В Египте они называются стратиотиками и фивионитами, в верхних частях Египта — сократитами, у иных же — закхеями. Одни называют их коддианами, другие же зовут их ворворитами» [Иоанн Дамаскин: Источник знания, 126]. Таким образом, и здесь мы видим, что гностицизм — это не просто «лжеучение» первых веков христианства, но уходящее к истокам мира «иное учение», еще и сегодня претендующее, наряду с христианством, на роль полноценной самостоятельной религии. И он особенно опасен для христианства, поскольку, как писал известный историк Церкви В. В. Болотов, «Гносис явился уже не как опыт полемики, а как опыт примирения язычества с христианством: интеллигентные язычники предлагали христианству соглашение», как чуть выше пишет Василий Васильевич, утаив в душе «мысль о реформе христианства» [Болотов, 1910, 169–170]. Причем именно гносис из всех ересей почитается как наиболее опасный из всех соперник. Как отметил В. В. Болотов, «Опасность гносиса заключалась в том, что он говорил языком более понятным, чем христианство» [Болотов, 1910, 170]. И это совершенно естественно, ибо гносис, по самому существу своего происхождения, опирался на «знание», в то время как христианство настаивало на преимуществе «веры».
Но что это за «знание», на котором настаивали гностики? В самом начале предисловия к изданию гностических текстов Е. В. Афонасин пишет: «„Гносис“ — базовый термин одноименного религиозно-философского учения, получившего распространение в поздней античности и означавший откровенное знание, доступное избранным» [Афонасин, 2008, 5]. И дает к этому следующую сноску: «Именно так гностицизм был определен на Международном коллоквиуме в Мессине в 1966 г.» [Афонасин, 2008, 5]. Также Г. Йонас особо отмечает, что само слово «гностицизм», возникшее, чтобы служить собирательным названием для многообразных сектантских учений, появившихся вокруг и около христианства в первые века существования последнего, происходит от греческого слова «гносис», обозначающего «знание». «Акцент на знании как способе обретения спасения или даже форме спасения как таковой и требование к обладанию этим знанием в одной четко сформулированной доктрине являются общей особенностью многочисленных сект, в которых исторически проявляло себя гностическое движение» [Хлебников, 2009, 50]. Здесь следует также отметить, что гносисом именовали сокровенное богопознание не только исторические гностики, но и Климент, и даже неоплатоник Прокл. Другой отечественный исследователь гностицизма, Г. В. Хлебников, пишет: «В гностическом контексте термин „знание“ имеет очевидно религиозное, или сверхъестественное, значение и относится к объектам, которые в настоящее время скорее назвали бы предметами веры, а не разума. „Знание“ гностиков, которому противостояла простая христианская вера, было нерациональным. Гносис означал по преимуществу знание Бога, а так как божество понималось как трансцендентное, то это „знание Бога“ было знанием чего-то реально непознаваемого, и потому не является знанием естественных предметов — его объекты включают все, что относится к божественной сфере бытия: порядок и историю высших миров, а также спасение человечества» [Хлебников, 2009, 50].
Опять мы видим, что речь идет ни много ни мало как о спасении человечества. Причем гностицизм, по мнению его адептов, предлагает более верный путь к спасению, чем христианство, призывая к обретению спасения через сокровенное знание, являющееся по сути своей не чем иным как Откровением Божиим. Как писал прп. Иоанн Дамаскин, «смиренный и послушный подражатель Христов восходит на высоту и приобретает от Бога световодящую благодать и, отверзая уста, исполняется духа, очищает сердце, просветляет разум и получает слово в открытии уст своих (Еф 6:19), не заботясь о том, что скажет, являясь органом говорящего через него
Духа, — то, повинуясь Христу, Который священноначальствует в вашем лице, подчиняюсь повелению и открываю уста, надеясь, что силою ваших молитв они исполнятся духа и я изреку слова, которые будут не плодом моего разума, но плодом Духа, просвещающего слепцов, принимая то, что Он даст, и именно это излагая» [Иоанн Дамаскин: Источник знания, 46]. И немного далее: «Слава этой истины, изнутри сияя, просвещает своими лучами тех, кто подходит к ней с должным очищением, отрешившись от суетных помыслов. Что же касается меня, то моего, как я сказал, здесь нет ничего» [Иоанн Дамаскин: Источник знания, 46–47]. Здесь тоже мы видим упование истинного христианина на Откровение Божие, Которое только одно и может позволить действительно что-либо в этом мире знать. Также А. Л. Хосроев приводит критическое замечание сщмч. Иринея в адрес гностиков: «Не переоценивай своего знания… не ищи чего-то, что выше Творца, ибо не найдешь; ибо безграничен (indeterminabilis) твой Создатель» [Хосроев, 20015, 15].
Чем же отличается гностическое откровение от Откровения христианского? «Для герметических трактатов более характерен термин „Нус“ (Ум), в тех сочинениях из Наг-Хаммади, которые близки эллинским и христианским традициям, может появляться понятие „внутренний человек“. Но, пожалуй, самый яркий и точный гностический символ — σπινθήρ spinthēr, „искра“, световая частица, то подспудно тлеющая в человеке, то обращающая его самого в свет. Власть ее абсолютна, ибо этот ничтожнейший огонек в состоянии разрушить в глазах „обратившегося“ кажущийся незыблемым и беспредельно превосходящим человека мир. Абсолютность власти проявляется еще и в том, что уверовавший (удостоенный посвящения-откровения) обнаруживает в этой искорке свою, отчужденную космогоническими перипетиями, „несравненную самость“. Следующим актом, окончательно превращающим его в пневматика, становится признание того, что это он отчужден, что его нынешняя „самость“, включая кажущийся глубоким опыт интравертирования, есть всего лишь внешняя оболочка, настоящее же „я“ находится там, в „искре“» [Светлов, 1998, 49–50]. Разговор о божественной искре, обретающейся внутри человека, казалось бы, вполне согласуется с христианским богословским контекстом. Однако здесь мы видим явный перенос акцента извне вовнутрь.
М. Э. Поснов, ссылаясь на Refutatio св. Ипполита Римского, приводит в своей докторской диссертации весьма характерное для гностиков выражение: «αρχη τελειωσεως γνώσις άνθροίπου, Θεου δέ γνώσις άπηρτισμένη τελείωσές» [Hippolytus: Refutatio, V.1-6.30. (P. 142)] ( « знание человеческое есть начало совершенства, божественное же знание есть совершенство безупречное») [Поснов, 1917, II]2. За этим мы можем усмотреть неотъемлемую претензию гностиков на существование чисто человеческого «знания», отличного от «знания», полностью полагающегося на веру в Бога, у христианина, от «знания», в котором «нет ничего своего». Таким образом, гностики, по существу, подменяли Откровение Божие неким необъяснимым образом осуществляемым проникновением в тайну «божественного знания». Как отмечает П. П. Гайденко, «Главное, что отличало эзотерически-оккультные учения от христианской теологии… — убежденность в божественной — нетварной — сущности человека и вера в то, что существуют магические средства очищения человека, которые возвращают его к состоянию невинности, каким обладал Адам до грехопадения. Очистившись от греховной скверны, человек становится вторым Богом. Без всякой помощи и содействия свыше он может управлять силами природы и, таким образом, исполнить завет, данный ему Богом до изгнания из рая» [Гайденко, 2003, 164–165].
Теперь мы уже с полной определенностью можем вести речь о том, что предпосылки гностицизма уходят своими корнями в самые первые дни творения. История возникновения его начинается с того, что «произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла (γνωστ^ν καλου̃ κα^ πονηρου̃)» (Быт 2:9). «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт 3:1–5). И вот теперь премудрый и хитрый змей внушает людям, нимало не смущаясь тому, прямо противоположную идею, будто и далее вкушая от древа познания добра и зла, они смогут вернуть себе «состояние невинности, каким обладал Адам до грехопадения».
Для того, чтобы окончательно убедиться в верности именно такой трактовки происхождения гностицизма, достаточно обратить внимание на основной вопрос, которым он задается в своих теоретических рассуждениях. М. Э. Поснов пишет об этом так: «Гностицизм знаменует решительно религиозное направление в синкретическом течении, сосредоточившемся около вопроса об избавлении человеческой души от страданий и окружающего зла. За решение указанного вопроса (ср. по Тертуллиану: „откуда зло и почему?“) принялись лучшие представители античного мира и создали чрезвычайно сложную „религию“, привнося в нее все самое ценное, чем владел только языческий мир — и науку, и теософию, и мистику, и магию, и теургию» [Поснов, 1917, LIV]. Следует присоединиться к выводам отечественного историка Церкви и признать, что именно «зло» является тем камнем, который положен во главу угла гностицизма. Как возможно зло в мире благого Бога? Вот вопрос, который безуспешно пытаются решить все противники христианства вот уже около двух тысяч лет.
И в этом смысле чрезвычайно выразительно высказывание французского философа-экзистенциалиста А. Ш. Пюэша, которое приводит М. К. Трофимова в своей посвященной гностицизму книге: «Как и весь гностицизм, манихейство родилось из страха, сопровождающего человека в мире. Положение, в котором он оказывается, рассматривается как странное, невыносимое, в корне дурное. Он ощущает себя порабощенным телом, временем и миром, причастным злу, которое постоянно угрожает или оскверняет его. Отсюда — необходимость освободиться… Свобода и полная чистота — это в моем бытии, в моем подлинном существовании. Я поистине выше действительной жизни и чужд этому телу, этому времени и этому миру» [Трофимова, 1979, 23].
Мы отчетливо видим «зло» как основу, вокруг которой развивается не только сам гностицизм, но и, вероятно, зависимое от него манихейство, и многие другие «иные учения». Также именно вокруг идеи самостоятельного существования зла в мире разворачивается и критика в так называемом Трактате против гностиков у Плотина (II: 9). Таким образом, из всего вышеизложенного вполне можно заключить, что гностицизм — это древо с ветвями-учениями, приносящими плоды, подобные головам лернейской гидры.
Список литературы К вопросу о происхождении гностицизма
- Афонасин (2008) - Афонасин Е. В. Гносис. Фрагменты и свидетельства. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008.
- Афонасин (2011) - Афонасин Е. В. "Лернейская гидра и проблема происхождения гностицизма // ΣΧΟΛΗ. 2011. Vol. 5. 1. С. 83-95.
- Болотов (1910) - Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви: в 4 т. СПб.: Типография М. Меркушева, 1910. Т. 2.
- Гайденко (2003) - Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. М.: Прогресс-Традиция, 2003.
- Иоанн Дамаскин: Источник знания - Иоанн Дамаскин, прп. Источник знания / Пер. А. И. Сагарды // Полное собрание творений св. Иоанна Дамаскина. СПб., 1913. Т. I.
- Поснов (1917) - Поснов М. Э. Гностицизм II в. и победа христианской религии над ним. Киев, 1917.
- Светлов (1998) - Светлов Р. В. Гнозис и экзегетика. СПб., 1998.
- Светлов (2016) - Светлов Р. В. Иов, Плотин, Платон // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2015. Т. 16. Вып. 3. С. 137-146.
- Сергеев (2002) - Сергеев К. В. Когнитивные модели и формирование религиозных институтов: античный протогностицизм // Полис. Политические исследования. 2002. № 5. С. 86-95.
- Трофимова (1979) - Трофимова М. К. Историко-философские вопросы гностицизма. М.: Наука, 1979.
- Хлебников (2009) - Хлебников Г. В. Философская мистика и гностицизм: история и современность. Аналитический обзор. М.: РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. Отд. философии, 2009.
- Хосроев (2015) - Хосроев А. Л. Еще раз об апофатическом богословии гностиков (материалы и комментарий) // Письменные памятники Востока. М.: Наука, 2015. № 1 (22). С. 12-36.
- Хосроев (2016) - Хосроев А. Л. "Другое благовестие". II: Христианские гностики II-III вв.: их вера и сочинения. СПб.: Контраст, 2016.
- Hippolytus: Philosophumena - Hippolytus Philosophumena or the Refutation of all heresies / Transl. from the text of Cruice by F. Legge, F. S.A. Society for promoting Christian knowledge. London. New York: The MacMillan company, 1921. Vol. I-II.
- Hippolytus: Refutatio - Hippolytus. Refutatio omnium haeresium / Ed. by M. Marcovich. Berlin. New York: Walter de Gruyter, 1986.