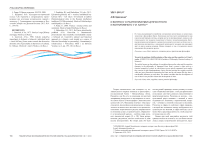К вопросу о разграничении ценностного и когнитивного у И. Канта
Автор: Кравченко Андрей Михайлович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 1 (27), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема соотношения когнитивных и ценностных элементов в философии Канта. Кантовская система часто воспринимается как классический пример системы, которая жестко их разграничивает, однако в действительности эти элементы существуют у Канта в тесной взаимосвязи. Жесткое различение когнитивного и ценностного является для него не более чем теоретическим конструктом, и в реальной деятельности человека они оказывают друг на друга немалое влияние. Можно говорить о том, что развитие одного невозможно без развития другого.
Кант, ценность, познание, разум, практическая философия
Короткий адрес: https://sciup.org/170175484
IDR: 170175484 | УДК: 1
Текст научной статьи К вопросу о разграничении ценностного и когнитивного у И. Канта
Теория «ценностного» как отличного от познавательного впервые возникла в философии у последователей Канта - Виндельбанда, Лотце, Риккерта и др. Но есть ли основания для жесткой демаркации ценностного и когнитивного в системе самого Канта? В монографии «Эпистемология ценностей» Л.А. Микешина отмечает: «Как представляется, философское разграничение познавательного и ценностного восходит к его противопоставлению теоретического разума, направленного на познание сущего, и практического, обращенного к человеческой морали, - особому миру должного (ценностей, норм)» [9, с. 28]. Такое разграничение, разумеется, вполне осмысленно и даже весьма конструктивно. Не говоря даже обо всей последующей традиции, можно упомянуть только один общеизвестный факт: этим разграничением пользовался сам Кант, разводя спекулятивный и практический разум. Различны их методы - спекулятивный разум начинает с явлений и затем поднимается к понятиям, а практический, напротив, - начинает с понятий и нисходит к явлениям. Различны и сферы их действия: сфера природы, в которой все подчинено закону необходимости и существуют все явления, и сфера свободы, где не может быть предопределенности, в ней существуют вещи сами по себе.
Однако при всей кажущейся жесткости этой границы нельзя не отметить, что для Канта она являлась скорее теоретическим конструктом, пред- назначенным для лучшего понимания функционирования структур человеческого разума.
В самом деле, практический разум во многом дополняет теоретический. Он берет на себя труд ответить именно на те вопросы, на которые не ответил разум спекулятивный: доказывает постулаты о Боге, свободе и бессмертии души; столкнувшись с ними, теоретический разум запутывается в антиномиях. Практический разум является продолжением теоретического. При взгляде под этим углом зрения можно указать на то, что практический разум является естественным продолжением спекулятивного, второй (и более успешной) его попыткой выйти за пределы явления в мир вещей. Практический разум, таким образом, следует из спекулятивного.
Но одновременно спекулятивный разум также обусловлен практическим: «Чистый спекулятивный разум стремился бы плотно закрыть свои собственные границы и не допускать в свою область ничего, принадлежащего практическому разуму, а чистый практический разум старался бы для всего раздвинуть свои границы и там, где это диктовала бы его потребность, включить теоретический разум в свои границы. Но нельзя требовать от чистого практического разума, чтобы он подчинился спекулятивному... так как всякий интерес в конце концов есть практический, и даже интерес спекулятивного разума обусловлен и приобретает, полный смысл (курсив мой - А. К.) только в практическом применении» [5, с. 454].
Отсюда вытекает закономерный вопрос: нельзя ли вывести один разум из другого? В данном случае - можно ли попытаться вывести практический разум средствами спекулятивного, понять его как обходной маневр разума вообще - в попытке добраться до вещей в себе? По крайней мере, логика изложения Кантом своей системы наводит на подобные мысли.
Такой переход, однако, проблематичен. Дело в том, что сама ориентация спекулятивного и практического разума различна. Спекулятивный ориентирован на раскрытие истины, какой бы она ни была, а практический, напротив, на выработку создания максим для действия. Как сказали бы сегодня, практический разум ориентирован на «ценности», а спекулятивный на «знания». Переход спекулятивного разума в практический происходит скачкообразно: первый не может постепенно измениться, он должен уже с самого начала целиком и полностью стать практическим.
Скажу при этом, что Кант не согласился бы с трактовкой, которую мы придаем понятию «знание»: для него «знанием» является не только верное мнение о природном мире (в т. ч. социальном, поскольку он рассматривается с точки зрения необходимости), но и «моральное знание». В «Антропологии с прагматической точки зрения» он пишет: «Честен, но глуп (как некоторые несправедливо говорят о прислуге из Померании) - это выражение ложное и заслуживающее крайнего порицания. Оно ложно, ибо честность (исполнение долга из принципов) есть практический разум» [3, с. 444]. «Хороший, но глупый человек» для Канта бессмыслица, ведь если этот человек может поступать правильно, то он уже использует, и верно использует, свой разум - практический разум. Конечно, возможна и путаница, и вместо моральности говорящий о глупом хорошем человеке имеет в виду легальность, иными словами, он не имеет верной максимы к поступку. Знание (понятое вполне антично - как верное мнение) о том, как правильно поступить, также есть полноправное знание; при этом оно, разумеется, по самой своей сути прямо ценностно. Но такое «знание», могут возразить, не является знанием научным. С определенной точки зрения, это, несомненно, так.
Однако, это далеко не так для самого Канта. «Практическое», моральное знание относится к области метафизики, той единственной, по Канту, осмысленной области, которая не подвержена антиномиям, - метафизики нравов. Метафизика, по Канту, безусловно, наука - пусть и не поднявшаяся до подлинно научного уровня. Поэтому я не могу согласиться с утверждением, что, по Канту, «... нравственность не входит в сферу знания, она образует особую сферу - сферу ценностей. Их различие состоит в том, что знания черпаются из мира, а ценности создают мир» [2, с. 8]. Моральный закон, хотя каждое разумное существо устанавливает его само для себя, - все же абсолютен, общезначим и существует (конечно, в сфере времени) до его установления конкретным человеком; и как таковой, он объективен. А значит, можно говорить об «открытии» человеком моральных законов, как и физических. Таким образом, мы, конечно, размываем четкую границу между «знанием» и «ценностью» -вплоть до того, что говорить о различии ценностного и когнитивного становится невозможно.
Важно, однако, указать на одно обстоятельство, из-за которого рассуждать о «ценностном» у Канта возможно только с очень большими оговорками. Конечно, основание для такого различения у него присутствует: человек самостоятельно избирает для себя свои максимы. Но в максимах, которые избирают два человека, если они избирают их «правильно», невозможны различия. Ведь понятие «человек» Кант использует в своем собственном смысле - «носитель разума». И именно разум, странно «единомысленный» у всех людей (и прочих, гипотетически мыслимых, разумных существ), устанавливает для себя моральный закон, так же всегда один и тот же. Более того, человек не может даже «ошибаться» в установлении таких максим. Кант не раз подчеркивает, что даже очень плохой человек не «ошибается в установлении себе закона». Он понимает, в глубине души, что поступает неверно, предпочитает максиму себялюбия или максиму какой-либо еще склонности, выше максимы долга - поступать в соответствии с моральным законом. Например, в «Религии в пределах только разума» философ утверждает: «Суждение: человек зол, согласно сказанному выше, выражает только то, что человек сознает моральный закон и тем не менее принимает в свою максиму (случайное) отступление от него» [8, с. 281]. Но тогда получается, что человек сам устанавливает себе закон... помимо собственной воли? Продолжая ведантистскую аналогию, можно сказать, что «ноуменальный человек» как носитель разума в данном конкретном человеке устанавливает закон, которому этот закон может и не нравиться, поскольку он мешает ему отдаваться его склонностям. Однако здесь мы далеко выходим как за пределы проблематики этого исследования, так и за пределы собственной компетенции.
Важно подчеркнуть, что в контексте данной работы абсолютно нет возможности для того, чтобы при столкновении обе ценностные системы были признаны Кантом как равноправные: всегда есть «верная» система, а противоположная ей ошибочна, если она вообще признается существующей.
У Канта мы везде - в этике ли, в эпистемологии, в антропологии или физике - видим одну единственно верную позицию, и наличие у человека другой свидетельствует только о том, что он ошибается. Исключением из этого, конечно же, являются чисто вкусовые феномены, а также индивидуальные склонности, ведь даже эстетические феномены у Канта имеют свойство «давления» над человеческим сознанием, принуждения в признании себя, не в меньшей степени, чем этические.
Конечно, у Канта есть рассуждения и о различиях тех позиций, которые занимают люди, в т. ч. вполне современного плана. Они посвящены различиям ценностных ориентиров (в современном смысле) между людьми разных обществ, подчас находящихся на разных этапах социального развития. Так, в «Антропологии» он отводит немалое место рассуждениям о «характере различных народов и рас». Однако даже в этом параграфе исследуются наиболее распространенные заблуждения, к которым склонны те или иные народы. Но если в заблуждениях различия возможны, то верное состояние может быть только одним. В «Религии в пределах только разума», а также в «Метафизике нравов», философ говорит о различиях между цивилизованными и нецивилизованными народами, но эти рассуждения не выходят за пределы классического европейского подхода, выраженного еще Локком. Есть у Канта и некоторые отступления от этого подхода: так, в одном месте, говоря о мужестве, он сравнивает подход американских индейцев и европейцев в неразрешимой ситуации (в окружении противника) и не делает однозначного вывода о том, чей подход более предпочтителен: «Но совершенно особого рода терпение проявляют американские индейцы, которые, когда они окружены, бросают свое оружие и без всяких просьб о пощаде спокойно позволяют себя изрубить. Больше ли здесь мужества, чем у европейцев, которые в подобном случае защищаются все до последнего человека? Мне кажется, что это тщеславие варваров, [а именно стремление] поддержать честь своего племени тем, что их враг не может принудить их к жалобам или вздохам как доказательству их покорности» [3, с. 502].
Данный пример можно считать признанием Канта двух возможных ценностных позиций если не равноценными, то хотя бы сравнимыми. Но этот пример, во-первых, один из немногих, во-вторых, очень частный, и, по аналогии с «метафизикой нравов», его стоило бы отнести к категории «казуистических вопросов», т. е. таких, на которые сам Кант хоть и не находил ответов, однако и не считал, что их поиском нужно заниматься всерьез.
Такая установка на абсолютность и, в конечном счете, на объективную истинность создаваемой системы далеко не нова в истории философии. Кант фактически не задает вопроса о культурных корнях тех утверждений, которые он использует, и о тех, которые конструирует сам. Помимо всего прочего, это свидетельствует и о принципиальной антиисторичное™ системы Канта. Именно эта единственная верность его философии подталкивает автора к осознанию значимости времени, когда она формулируется. Эссе «Ответ на вопрос: что такое просвещение» дает нам в эксплицитной форме и ответ на вопрос, «почему критическая философия появилась на свет именно сейчас?» Это не случайно, утверждает философ, как не случайны и недавние достижения человечества в других науках. Просто именно в эпоху Просвещения человек достигает зрелости, избавляется от постылого опекунства над его разумом, которое наносило ущерб не только опекаемому, но и опекуну. Человечество начинает мыслить свободно. И результаты, естественно, не заставляют себя ждать.
Следует ли из этого, что Кант был, бессознательно, носителем системы ценностей того общества, в котором существовал, и поэтому считал его истинным? Безусловно, этические и методологические принципы, которых придерживался Кант, есть в немалой степени этические и методологические принципы, развитые европейской культурой на протяжении всего ее существования. Ему вполне может быть предъявлено расхожее обвинение в «смещении ценностного и когнитивного в исследовании».
Однако Канта в этом обвинить нельзя! Для современного ученого, тем более философа, работающего в рамках конкретной проблематики, интенция «очистить» свою деятельность от всего субъективного, ценностного может быть нормой [10, с. 66-71]. Кант - слишком философ-энциклопедист, занятый строительством «глобальной теории всего», чтобы не спросить у подобного ученого: зачем она нужна? какой в ней смысл? какова ее ценность? И ничего риторического в подобных вопросах нет - каждый вид деятельности должен быть взвешен и оценен, чтобы найти ответ на вопрос, нужен ли он, и для чего? И вот именно здесь включаются ценности. Чтобы доказать свое право на существование, познание, наука, даже сам разум (спекулятивный), должны ответить на вопрос: имеет ли их деятельность ценность? Ценность заключается в том, что человек должен стремиться реализовать все возможности, данные ему природой: «Но для целей природы можно признать в качестве основоположения: она желает, чтобы все сотворенное достигало своего назначения целесообразным для себя развитием всех задатков своей природы, дабы ее намерение осуществила если не каждая особь, то вид» [3, с. 583]. Спекулятивный разум, таким образом, тоже ориентирован на реализацию должного в сущем, что объединяет его с практическим, делает первый как бы филиалом второго. Но это и не удивительно, ведь речь идет всегда «об одном и том же разуме». С другой стороны, теоретическое познание мира природы (в т. ч. человека и создаваемого им социального мира, понимаемого как явление) оказывается деятельностью достойной и осмысленной, которой стоит заниматься именно потому, что знание является ценностью, и притом абсолютной.
Проблема знания, имеющего ценность, здесь понимается не только в контексте всего человечества, но и по отношению к конкретному человеку. Помимо вышеуказанного, прямого, смысла - долга человека реализовать данные природой задат ки - у знания есть еще один, даже более тесно переплетающий когнитивное и ценностное. Так, Кант указывает во все той же «Антропологии с прагматической точки зрения», что «...стремление к науке как облагораживающей человечество культуре (курсив мой - А. К.) в общей [жизни] рода несоразмерно продолжительности жизни [отдельного индивида]. Ученый, когда достигает в области культуры такой степени, что сам может ее расширить, уходит из жизни, а его место занимает начинающий с азов ученик, который перед концом своей жизни, после того как сделал такой же шаг вперед, опять-таки должен уступать свое место другим» [3, с. 579]. В этом утверждении научное познание уже важно само по себе, оно облагораживает, делает человека лучше. Человек, изучающий мир, человек познающий, конечно, не гарантированно будет хорошим; но уже потому, что он - человек познающий, он находится в лучшем положении для нравственного роста, чем не сведущий в науках.
В небольшом параграфе «Об обязанностях относительно различия сословий» в «Лекциях по этике» Кант дает вероятное объяснение того, почему вышеприведенная сентенция верна, объяснение, попахивающее средневековой, если не античной, архаикой. Он говорит: ученый поднимается над неучем потому, что сама его деятельность, т. е. познание является деятельностью, соответствующей долгу всех людей. «Кажется, что лишь ученый созерцает красоту, заложенную Богом в мир, и использует этот мир с той целью, с которой Бог его создал. С какой же целью заложил Бог красоту в природу, если не с целью созерцания ее?» [6, с. 214]. Научное познание есть не просто забава отвлеченного ума, оно укоренено в онтологии, весь мир, можно сказать, создан для него. Но в данном случае проявляется установка на элитарность ученой корпорации -ас этим Кант, философ Просвещения и современник Французской революции, согласиться уже не может. Поэтому он подвергает жесткой критике эту линию, присоединяясь к Руссо. Познание отдельного человека ограничено, и всей жизни ученого хватит лишь на маленькую кроху познания природы. Ценность труда ученого не в созерцании, а в раскрытии «осколка» истины другим людям. «Хотя все вместе взятые ученые вносят вклад в цель развития человечества, так что ни один из них не может отвести себе особое место, точно так же каждый ремесленник благодаря своей работе, как и ученый, вносит свой вклад в цель развития человечества» [6, с. 214]. Однако, на наш взгляд, деятельность всех ученых вообще от этого менее ценной не становится.
Одновременно с непосредственным благом, изучение наук приносит благо и опосредованно. Человек, познающий мир, использующий теоретический разум, оттачивает и практический. И дело не только в этом: «Науки суть принципы улучшения моральности. Для уяснения моральных понятий требуются опыт и объясняющие понятия. Развитые науки облагораживают человека, и любовь к науке уничтожает многие низменные склонности» [6, с. 215]. В данном утверждении снова повторяется мотив «облагораживания» человека. Философ считает, что изучение построенной Богом по «правильным» принципам вселенной настраивает человека на правильный лад, он начинает и в практической (моральной) сфере мыслить более правильно.
Однако и нравственное совершенствование, в свою очередь, приносит пользу в познании: «С другой стороны, моральность способствует развитию наук. Порядочность и уважение прав других людей сильно способствуют развитию научного познания. Честность ученого требует, чтобы в его писаниях не скрывались слабые места и заблуждения. Моральный характер, следовательно, оказывает большое влияние на науки» [6, с. 215]. Нравственное и познавательное, таким образом, не просто сосуществуют, но и активно взаимодействуют. Совершенствование в одной сфере для своего наиболее полного развития требует и совершенствования в другой.
Список литературы К вопросу о разграничении ценностного и когнитивного у И. Канта
- Апресян Р.Г. Комментарии к дискуссии//Логос. № 5. 2008. С. 196-214.
- Гусейнов А.А. Этика доброй воли//Кант И. Лекции по этике. М.: Республика, 2000.
- Кант И. Антропология с прагматической точки зрения//Кант И. Соч. в 6 т. Т. 6. М.: Мысль, 1966.
- Кант И. Конец всего сущего [Электронный ресурс]: http://krotov.info/library/11_k/an/t_7_1.html
- Кант И. Критика практического разума//Кант И. Соч. в 6 т. Т. 4, ч. 1. М.: Мысль, 1965.
- Кант И. Лекции по этике. М.: Республика, 2000.
- Кант И. Метафизика нравов//Кант И. Соч.: в 6 т. Т. 4, ч. 2. М.: Мысль, 1965.
- Кант И. Религия в пределах только разума//Кант И. Соч. в 6 т. Т. 4, ч. 1. М.: Мысль, 1965.
- Микешина Л.А. Эпистемология ценностей. М.: РОССПЭН, 2007.
- Пружинин Б.И. Фундаментальная наука в XXI веке. Надеюсь, что будет жить//Вопросы философии. 2008. № 5. С. 66-71.