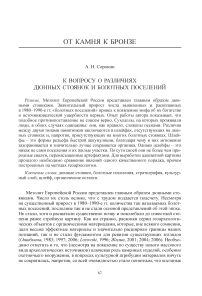К вопросу о различиях дюнных стоянок и болотных поселений
Автор: Сорокин А.Н.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: От камня к бронзе
Статья в выпуске: 245-1, 2016 года.
Бесплатный доступ
Мезолит Европейской России представлен главным образом дюнными стоянками. Значительный прирост числа выявленных и раскопанных в 1980-1990-е гг. «болотных поселений» привел к появлению мифа об их богатстве и источниковедческой ущербности первых. Опыт работы автора показывает, что подобное противопоставление не совсем верно. Суходолы, на которых проживали люди, в обоих случаях одинаковы: они, как правило, сложены песками. Различия между двумя типами памятников заключаются в шлейфах, отсутствующих на дюнных стоянках и, напротив, присутствующих на многих болотных стоянках. Шлейфы - это формы рельефа быстрой аккумуляции, благодаря чему в них мгновенно захоранивается и значительно лучше сохраняется органика. Однако шлейфы - это никак не сами поселения и их жилые участки. По сути своей они не более чем природные свалки, перенасыщенные артефактами. Для выработки адекватной картины прошлого необходимо сравнение явлений одного качественного порядка, причем построенных на методах геоархеологии.
Дюнные стоянки, болотные поселения, стратиграфия, культурный слой, шлейф, органические остатки
Короткий адрес: https://sciup.org/14328357
IDR: 14328357
Текст научной статьи К вопросу о различиях дюнных стоянок и болотных поселений
Мезолит Европейской России представлен главным образом дюнными стоянками. Число их столь велико, что с трудом поддается подсчету. Несмотря на существенный прирост в 1980–1990-е гг. количества так называемых болотных поселений, последние так и не стали основой представлений об этой эпохе. Не стали, хотя и расшатали существенно почву и поколебали до известной степени ранее стройную картину. Как ни странно, раскопки серии геоархеологи-ческих объектов с органическими материалами, которые, вне всякого сомнения, дали весьма эффектные материалы и значительно расширили границы наших познаний, так и не стали фундаментом для ревизии существующих взглядов (Ошибкина, 1983; 1997; 2006; Lozovski, 1996; Жилин, 2001; 2004; 2006). Необходимо отметить и то, что (несмотря на появление по существу нового массового вида археологических источников) ключевая роль каменных изделий, особенно охотничьего вооружения, в вопросах культурной атрибуции материалов ничуть не сократилась, напротив, со всей очевидностью стало понятным, что костяные и роговые изделия пока не выдерживают с ними конкуренции. Определяется это не только тем, что массовость костяных и роговых артефактов (Жилин, 2001), а тем более изделий из древесины (Лозовская, 2008; 2011) весьма преувеличена и по-прежнему не идет ни в какое сравнение с количеством артефактов из камня, но и тем, что определение специфики органогенных и органосодержащих объектов в качестве археологических источников по существу не проводилось. Исследователи таких памятников исходили из того, что она содержится априори, и доля правоты в этом, безусловно, есть. Однако первая же попытка реального осмысления этой специфики показала, что сходство изделий из органических материалов запрограммировано самой их природой и заключается в значительной степени в мерных признаках фаунистического сырья, а отнюдь не в технологических и морфологических особенностях артефактов, за которыми стоят культурно-исторические достижения первобытного населения (Сорокин, 2014а; 2014б). Это объясняет, почему выделение кундско-бутовской общности по органическим материалам (Жилин, 2001) без учета морфометрии артефактов из них и реконструкции образа жизни первобытного населения оказалось не совсем удачным.
Тем не менее известные подвижки произошли, и состоят они в том, что возникло представление о богатстве торфяниковых стоянок по сравнению с дюнными объектами, более того, к первым даже прижился термин «болотные поселения». Опыт работы на торфяниках показывает, что и то, и другое мнение не совсем точно. Степень богатства, как и любая величина, – понятие относительное. Да и соотношение органогенных, органосодержащих и минеральных стоянок в пределах одного болота часто бывает далеко не в пользу первых. Например, на Заболотском торфянике из 25 памятников таких не более десятка, а большинство располагается на минеральных грунтах и никакой органики не имеют. В результате они ничем не отличаются от дюнных объектов. Но не о них сейчас речь. Что же касается второго термина, то никто в отечественной литературе корректно не доказал, что в средней полосе Европейской России в эпоху каменного века существовали постоянные (круглогодичные) поселения. Анализ показывает, что это были исключительно сезонные стоянки, а следовательно, подменять данный тип памятников в отношении объектов каменного века термином «поселение» – по меньшей мере, некорректно. В связи с затронутой темой мне бы хотелось остановиться лишь на одном ее аспекте: в чем, собственно, радикальное различие дюнных стоянок и «болотных поселений», из-за которого одни противопоставляются другим?
Как известно, главными особенностями дюнных стоянок служат отсутствие выразительной стратиграфии отложений, приуроченность артефактов к рыхлым песчаным грунтам, опосредованная взаимосвязь материальных остатков с почвенными горизонтами, компрессионность и невыраженность культурных слоев, дисперсное залегание в них артефактов, бедность орудийного набора и тех материальных следов, которые фиксируются во время раскопок. Чтобы охарактеризовать и подчеркнуть вышесказанные особенности данного типа памятников и закономерности распределения в них изделий, обычно говорят не столько о культурных слоях дюнных стоянок, сколько о горизонтах залегания находок. Стандартный набор артефактов эпохи первобытности при этом сводится почти исключительно к каменным изделиям и фрагментам керамики. Этот скудный список дополняется небольшим числом иных признаков – древесными угольками, кальцинированными косточками, слабо осязаемыми кострищными пятнами, разного рода ямами и изредка присутствующими негативами жилищных западин. Довольно скуп и потенциал естественно-научных методов, применяемых при исследовании дюнных стоянок. Как правило, он сводится к попыткам радиоуглеродного датирования и использованию палинологии и почвоведения. Источником сведений для первого служат древесные и костные угольки, двух последних – малочисленная, часто минерализованная, пыльца и фитолиты, а также биоморфный и фосфатный анализы современных и погребенных почв. Ограниченность списка образцов для естественно-научных методов красноречиво подчеркивается общей малочисленностью имеющихся радиоуглеродных дат и их противоречивостью, а также невыразительностью и похожестью пыльцевых спектров, слабой разработанностью общих аналитических почвенных данных, аморфностью хронологических шкал и т. д.
Чтобы подчеркнуть скудость набора артефактов, характеризующего дюнные стоянки, этому типу памятников обычно противопоставляют так называемые болотные поселения, особенно многослойные. На них в изобилии присутствуют фаунистические и флористические остатки, а основу орудийного набора составляют изделия из органических материалов ( Воронков, Косорукова , 2014; Гринин, Косорукова , 2011; Жилин , 2004; 2006; Иванищева , 2004; 2010; Иванищев, Ивани-щева , 2004; Косорукова , 2012; 2014а; 2014б; 2014в; Косорукова, Пьецонка , 2014; Кравцов, Леонова , 2001; Кравцов , 2002; 2004; Лозовский , 2001; 2003; Меньшиков и др. , 2012; Цветкова , 2006; 2011; 2012а; 2012б; 2013; 2014а; 2014б). Подобное противопоставление между тем представляется не совсем корректным, ибо при таком сравнении осуществляется своеобразная подмена понятий. Дело в том, что люди обычно жили не на болоте или открытой воде, а на суходолах близ открытой воды. Не были при этом исключением и заболоченные участки, среди которых при прочих равных выбирались наиболее комфортные и выигрышные для проживания. За редчайшим исключением места обитания всегда были связаны с водой лишь опосредованно: из того факта, что всем живым существам для жизни необходима вода, еще совсем не следует, что в ней они и обитают. Более того, процессы торфообразования обычно не совпадали со временем обитания на тех или иных стоянках. Большинство памятников становились «болотными поселениями» в результате постседиментационных процессов и других радикальных геоморфологических изменений, когда местообитания уже стали геоархеологическими объектами.
Во все времена, кроме позднейших, места поселений привязаны к так называемым суходолам вне зависимости от того, к чему орографически и морфо-скульптурно они относятся. Это могли быть острова, гривы и береговые валы, боровые террасы и террасы более высокого ранга, высокие поймы и даже низкие поймы, однако последние заселялись тогда, когда они уже обсохли после весенних паводков и стали пригодными для освоения. В этом списке не составляют исключения и водоразделы, однако характер их использования в каменном веке требует отдельного предметного изучения и лежит в силу специфики вне поля зрения конкретного исследования.
Что касается низинных участков, то они вполне подходят для проживания зимой, когда все сковано морозом и нет проблем для передвижения по поверхности. А вот неудобья, особенно подтопленные и заболоченные, осваивались крайне редко и при таких обстоятельствах, когда у людей не было иного практического выбора. В этой связи достаточно вспомнить пример, хоть и далекий от археологии каменного века, но понятный всем – со старообрядцами.
Необходимо подчеркнуть, что суходолы на боровых речных и озерных террасах и даже на торфяниках обычно песчаные, и ничем принципиально друг от друга в этом отношении они не отличаются. Опыт показывает, что и на торфяниках заселялись преимущественно песчаные гривы, острова, останцы и боровые террасы, т. е. все те естественные формы рельефа, которые имели хороший дренаж, были в момент проживания сухими и вполне комфортными. Позднее с изменением климата и гидрологического режима озерные котловины могли заболачиваться на обширных площадях, из-за чего торф поглощал и скрывал от глаз некогда положительные, вполне пригодные для обитания, формы рельефа. И тогда, будучи погребенными торфами, все они уже перестают восприниматься как некогда удобные и обитаемые, но данное обстоятельство ни в коей мере не отменяет самой их природы.
При определенных условиях сходны и археологические наборы, которые можно добыть на «болотных поселениях» и дюнных стоянках, особенно в тех уникальных случаях, когда на песчаных буграх сохраняется органика. В качестве примера достаточно вспомнить такие классические дюнные стоянки Мещерской низменности, как Черная Гора, Владычино, Шагара 1 и 2, Совка 1 и другие, где известны не только костяные и роговые изделия, но и захоронения людей. Эти удивительные геоархеологические объекты поражают разнообразием и обилием своих каменных находок, но в особенности артефактами из органических веществ, уникальными предметами искусства, многочисленными экстраординарными антропологическими материалами. Особо следует упомянуть и их мощные, весьма выразительные и обильно гумифицированные культурные слои, которые, помимо прочего, служат полноценным источником естественно-научных данных. В результате эти боровые стоянки по своему богатству ничем не уступают «болотным поселениям». Но это случаи уникальные и обязаны они, опять-таки, своим существованием высокой обвоженности тех мест, где эти стоянки располагаются, и, прежде всего, за счет окружающих их торфяников и озерной орографии.
А различаются радикально торфяниковые и дюнные местообитания не своими суходолами, а наличием шлейфов в водной среде на «болотных поселениях» и их отсутствием на боровых террасах или, говоря другими словами, типичных дюнных стоянках. Если все богатство дюнных стоянок связано с террасами, то болотные кладовые обязаны своими экстраординарными сокровищами отнюдь не суходолам, а шлейфам. Это они в основном дают все то обилие органики, которое поражает воображение и делает «болотные» объекты предметом вожделения.
Необходимо заметить, что шлейфы не являются местами стандартного проживания, они формируются в водной среде естественным путем, а в тех случаях, когда прилегают к обжитым участкам, т. е. собственно стоянкам, еще и с неизбежностью включают археологические материалы. Вместе с тем, если менялась гидрография и в силу известных причин вода уходила, шлейфы тоже оказывались на поверхности, обсыхали и переставали аккумулироваться. Любая трансформация их орографического состояния неизбежно приводила к изменению характера литогенеза и педогенеза, в результате чего тафономизация культурных остатков в них, если и происходила, уже ничем существенным не отличалась от формирования обычных дюнных объектов.
В зависимости от генезиса шлейфы могут быть как монослойчатыми, так и мультислойчатыми, а в сочетании с артефактами в последних из них – давать потрясающую археологическую стратиграфию древностей. Влажная среда, как правило, намного комфортнее для сохранения органических остатков. В результате и создается то потрясающее воображение изобилие уникальных материалов, которые встречаются на «болотных поселениях». Наличие шлейфов в одном типе памятников и их отсутствие в другом и есть то основное, что различает болотные и боровые стоянки, из-за чего и происходит невольная подмена понятий, когда сравниваются между собой не базисные явления, а лишь добываемый археологом «бренный наполнитель природных и археологических разрезов». Изобилие органических материалов в шлейфах и делает «болотные поселения» неординарными, отличными от большинства дюнных стоянок. Но это никак не сами поселения, не сами местообитания, а лишь их экстраординарные участки, генезис которых весьма и весьма специфичен. Шлейфы – это формы рельефа быстрой, часто разовой, аккумуляции. Цикличность природных процессов стандартно вызывает их мультислойчатость, однако особую ценность они приобретают только в тех случаях, когда в разных прослоях скапливается и захоранивается перемещенный с суходолов поселенческий материал. Необходимо помнить, что все эти уникальные места, все эти поражающие своей стратиграфией воображение «археологические кладовые» по сути своей не более чем природные свалки, перенасыщенные артефактами, а никак не сами поселения и их жилые участки ( Сидоров , 2009; Сорокин , 2016). Именно в этом их своеобразие и суть. Следует отметить, что куда как больше шлейфов дислоцируются вне памятников, но в таких случаях они обычно не становятся объектом археологических изысканий и остаются вне поля нашего зрения.
Интересно отметить в этой связи, что практически все крупные низинные болота приурочены к зандрам. Со всей неизбежностью это означает, что основные формы рельефа (морфоскульптуры) в них сложены песками. В свою очередь, неизбежным следствием данного обстоятельства служит тот факт, что суходолы, которые выбирались для освоения, в них тоже преимущественно или исключительно песчаные. А вот шлейфы могут иметь иной генезис и не обязательно формируются песками. Напротив, для них более характерны илы, суглинки и даже глины. Главная роль в их формировании принадлежит воде. Это определяет высокую слоистость и различный состав прослоев, причем помимо геологических и почвенных процессов немаловажную роль в накоплении шлейфов могут играть биологические и фаунистические компоненты. Например, сапропели формируются как донные озерные отложения, в состав которых неизбежно входят разнообразные водные организмы, диатомовые и другие водоросли, а прослои кальцитов – вообще исключительно как продукт седиментации и разложения моллюсков. Высока и роль детрита, формирующегося в результате переработки растительных органических остатков и т. д. Недаром подобные напластования стандартно интерпретируются в качестве органогенных. Вне памятников, однако, все эти напластования и процессы представляют интерес исключительно для специалистов естественных направлений, а отнюдь не для археологов, что не отменяет ни в малой степени их уникальных познавательных возможностей.
В отличие от озер и болот, в образовании шлейфов на поймах велика роль делювиальных процессов. Совершенно очевидна и сезонность их формирования. Поступление аллювия на пойму – явление также вполне рядовое, при этом его отложение максимально весной, когда происходит сезонное таяние снега. В летнее время после обсыхания пойменные участки бывают вполне доступны для освоения и обитания, а при многократности этого процесса они способны становиться многослойными объектами. В этом принципиальное отличие сезонно обсыхающих слоистых участков от шлейфов, формирующихся исключительно в водной среде и не являющихся суходолами или, говоря иначе, местами обитания. Вот почему скапливающийся в них в виде свалок археологический материал некорректно противопоставлять зандровым объектам.
В этой связи уместно заметить, что и многие болотные стоянки, как это хорошо известно, часто бывают лишены органики. Например, жилые площадки многих стоянок Заболотского палеоозера либо вообще не дают изделий из органических материалов, либо там их встречено на порядок меньше, чем в шлейфах тех же памятников. В этой связи, чтобы подтвердить сказанное, достаточно вспомнить такие классические и широко известные геоархеологические объекты, как Замостье 2 или 5 (Древности Залесского края…, 1997; Лозовский , 2001; 2003; Каменный век европейских равнин…, 2001; Замостье 2: озерное поселение…, 2013; Сидоров, Сорокин , 1997; 1998; 2001; Сорокин, Хамакава , 2014). Связано это, прежде всего, с разницей в скорости седиментации и формирования водно-аккумуляционных и эоловых напластований. Необходимо со всей очевидностью подчеркнуть, что скорость осадконакопления в шлейфах и на суходолах несопоставима: на первых она молниеносна, на вторых – бесконечно длительна. Немаловажна и роль разных условий консервации органических остатков: в первом случае – это практически их разовое захоронение и естественное сохранение в водной среде, во втором – неопределенно длительное экспонированное состояние и постепенное захоронение, преимущественно под воздействием эоловых процессов и педогенеза. Прямым негативным следствием замедленности процесса седиментации и археологизации (тафономизации) материалов служит их сравнительно быстрое разложение в воздушной среде и практическое исчезновение органической составляющей. Вот почему суходолы «болотных поселений» также скудны органикой, как и классические дюнные стоянки. Недаром в литературе в отличие от органогенных напластований они называются органо-содержа-щими. Все сказанное позволяет утверждать, что для выработки адекватной картины необходимо сопоставление «не вообще», по признаку эсктраординарности или случайности, а сравнение явлений одного качественного порядка, причем построенных на методах геоархеологии ( Сорокин , 2016). Тогда, уверен, и выводы, которые можно сделать на их основе, будут существенно отличаться от результатов широко распространенных, но поверхностных впечатлений.
Еще раз напомню: шлейфы – это не жилые площадки, и особенности их формирования качественно отличаются от процессов дюно- и террасообразо-вания. Точно так же разнятся и постседиментационные результаты. Шлейфы – это особые участки, формирование которых происходит главным образом без непосредственного участия человека, т. е. почти исключительно естественным путем ( Сидоров , 2009; Сорокин , 2016). Разумеется, без человека не было бы вообще ни одного памятника археологии, но формирование шлейфов, как и конусов выноса, делювиальных шлейфов и т. д., – явление объективное, связанное преимущественно, если не исключительно, с природными особенностями седиментации, а никак не с результатами человеческой деятельности. Особую ценность шлейфы представляют в тех случаях, когда они сопрягаются с геоархео-логическими объектами. Вот почему было бы ошибкой полностью исключить роль человека в их формировании, но эта роль прикладная, опосредованная и далеко, как правило, не решающая.
Как известно, шлейфы формируются в водной среде в результате аллювиальных, делювиальных и осадочных процессов ( Иванова , 1974; Леонтьев, Рычагов , 1979; Рычагов , 2006). Аллювиальные напластования накапливаются преимущественно в стоячей и слабопроточной воде. В средней полосе обычно это озерные осадки, но аллювий может накапливаться и в заводях, где вода непроточная или слабопроточная. Может он активно приноситься и речной, т. е. проточной, водой, режим которой определяется сезонностью. Весной, особенно во время половодий, седиментация достигает своего пика, зимой – она минимальна. Летом во время засухи, когда реки мелеют, а порой и пересыхают, формирование аллювиальных отложений может вообще прекращаться. Однако во время дождей, особенно ливневых и затяжных, прирост напластований может носить скачкообразный характер. В то же время любое увеличение скорости и объема потока может приводить к перемещениям и переотложениям аллювиальной свиты.
Делювиальные отложения формируются на склоновых поверхностях, и помимо оползней в их формировании активное участие принимают бурные разливы, весеннее снеготаяние и дожди относительно высокой интенсивности. В тех случаях, когда делювий оказывается смыт или перемещен в проточную воду, он постепенно становится аллювием. Аллювиальные шлейфы в зависимости от направления водотока накапливаются в заводях и заливах обычно перпендикулярно или по касательной к берегу. Их ширина на небольших равнинных реках бывает не очень значительной, в среднем около 3–5 м. В озерной воде аллювий может покрывать все дно, однако перемещенный с суходолов в водную среду археологический материал имеет тенденцию сортироваться по мерным и весовым признакам и скапливаться (за исключением древесины) преимущественно в прибрежной части ( Сидоров , 2009).
Другой особенностью шлейфов служит присутствие в них значительного числа прослоек. Мультислойчатость шлейфов вызвана их генезисом и связана с многократными переносами рыхлого материала (как в виде аллювия, так и в виде делювия) и его последующей консервацией в водной среде. Не следует забывать и о роли в формировании прослоев биогенеза, кальцитогенеза и прочего донного седиментоза. Необходимо помнить, что атрибутом шлейфов являются не только горизонтально и субгоризонтально лежащие прослои, включающие минеральные вещества, сапропели, детрит, кальцит, растительные остатки, древесину и артефакты, но и разного рода размывы, когда паводок сносит свиту напластований полностью или локальные промоины разрушают идеальную слоистость местно и внедряют в гомогенные напластования структурно чуждые элементы. Турбации, при которых переносятся материалы того же генезиса, что и уже отложенные прослои, далеко не всегда можно бывает с течением времени различить. Это определяет чрезвычайную сложность подобных отложений для восприятия и создает почву для появления стандартных ошибок археологической интерпретации (Грачева и др., 2006), особенно в тех случаях, когда эти процессы сопрягаются еще и с перезахоронением археологического материала.
Таким образом, дюнные и болотные стоянки различаются не суходолами, а шлейфами, состоянием и условиями консервации в водной и воздушной среде культурных напластований. Оба типа памятников имеют свои специфические особенности, которые необходимо учитывать при их полевом изучении и впоследствии – при интерпретации полученных данных и коллекций. Ибо от характера исследуемого источника и адекватной оценки его возможностей в значительной степени зависят познавательные возможности и те выводы, к которым мы приходим.
Список литературы К вопросу о различиях дюнных стоянок и болотных поселений
- Воронков С. А., Косорукова Н. В., 2014. Исследование торфяникового памятника Погостище 15 в бассейне озера Воже в 2014 г.//Геолого-археологические исследования в Тимано-Североуральском регионе. Т. 17: Доклады 17-й научной конференции (30 октября 2014 г.)/Ред. А. М. Асхабов. Сыктывкар: Геопринт. С. 119-127.
- Грачева Р. Г., Сорокин А.Н., Малясова Е. С., Успенская О. Н., Сулержицкий Л. Д., Чичагова О. А., 2006. ПОГРЕБЕННЫЕ ПОЧВЫ И КУЛЬТУРНЫЕ СЛОИ В УСЛОВИЯХ ЗАБОЛОЧЕННЫХ ЗАНДРОВЫХ РАВНИН: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ И ПРИРОДНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЙ//Культурные слои археологических памятников. Теория, методы и практика: материалы науч. конф./Ред.: С.А. Сычева, А.А. Узянов. М.: НИА-Природа. С. 186-211.
- Гринин А. А., Косорукова Н. В., 2011. Исследование торфяниковой мезолитической стоянки Погостище 15 в бассейне озера Воже в 2011 г.//Геолого-археологические исследования в Тимано-Североуральском регионе. Т. 14: Доклады 14-й научной конференции (27 октября 2011 г.). Сыктывкар: Геопринт. С. 138-144.
- Древности Залесского края: материалы к междунар. конф. «Каменный век Европейских равнин: объекты из органических материалов и структура поселений как отражение человеческой культуры» (1-5 июля 1997, Сергиев Посад)/Ред. Т. Н. Манушина и др. Сергиев Посад, 1997. 198 с.
- Жилин М. Г., 2001. Костяная индустрия мезолита лесной зоны Восточной Европы. М.: Эдиториал УРСС. 328 с.
- Жилин М. Г., 2004. Природная среда и хозяйство мезолитического населения центра и северо-запада лесной зоны Восточной Европы. М.: Academia. 144 с.
- Жилин М. Г., 2006. Мезолитические торфяниковые памятники Тверского Поволжья: культурное своеобразие и адаптация населения. М.: Лира. 140 с.
- Замостье 2. Озерное поселение древних рыболовов эпохи мезолита-неолита в бассейне Верхней Волги/Под ред. В. М. Лозовского, О. В. Лозовской, И. Клементе Конте. СПб: ИИМК РАН, 2013. 240 с.
- Иванищев А. М., Иванищева М. В., 2004. Хронология памятников раннего неолита южного Прионежья//Проблемы хронологии и этнокультурных взаимодействий в неолите Евразии (хронология неолита, особенности культур и неолитизация регионов, взаимодействия неолитических культур в Восточной и Средней Европе)/Отв. ред.: В. И. Тимофеев, Г. И. Зайцева. СПб: ИИМК РАН. С. 60-69.
- Иванищева М. В., 2004. Хронология памятников раннего неолита Южного Прионежья//Проблемы хронологии и этнокультурных взаимодействий в неолите Евразии (хронология неолита, особенности культур и неолитизация регионов, взаимодействия неолитических культур в Восточной и Средней Европе)/Отв. ред.: В. И. Тимофеев, Г. И. Зайцева. СПб: ИИМК РАН. С. 60-69.
- Иванищева М. В., 2010. Ранний неолит нижнего Посухонья//Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. 1/Отв. ред. А. П. Деревянко. М.: ИА РАН. С. 222-223.
- Иванова М. Ф., 1974. Общая геология. М.: Высшая школа. 400 с.
- Каменный век европейских равнин: объекты из органических материалов и структура поселений как отражение человеческой культуры: материалы междунар. конф. (Сергиев Посад, 1-5 июля 1997 г.)/Ред. Т. Н. Манушина и др. Сергиев Посад: Подкова, 2001. 316 с.
- Косорукова Н. В., 2012. Торфяниковая мезолитическая стоянка Погостище XIV в бассейне озера Воже (по материалам исследований 2005, 2008, 2009 гг.)//История и археология Русского Севера: сб. материалов науч. конф., посвященной 60-летию со дня рождения Н. В. Гуслистова/Ред. А. В. Суворов. Вологда: Древности Севера. С. 58-63.
- Косорукова Н. В., 2014а. Костяной инвентарь мезолитической стоянки Погостище 15 в бассейне озера Воже//Археология Севера. Вып. 5/Ред. А. В. Кудряшов. Череповец: Череповецкое музейное объединение: Череповецкий гос. ун-т. С. 4-15.
- Косорукова Н. В., 2014б. О датировке торфяниковой стоянки Караваиха 4 в бассейне озера Воже//От Балтики до Урала: изыскания по археологии каменного века. Сыктывкар. С. 142-146.
- Косорукова Н. В., 2014в. Каменный инвентарь мезолитической стоянки Погостище 15 в бассейне озера Воже//Труды IV (XX) Всероссийского Археологического съезда в Казани. Т. I/Отв. ред.: А. Г. Ситдиков, Н. А. Макаров, А. П. Деревянко. Казань: Отечество. С. 281-284.
- Косорукова Н. В., Пьецонка Х., 2014. Новые материалы по эпохе неолита в бассейне озера Воже//Археология озерных поселений: хронология культур и природно-климатические ритмы/Ред. А. Н. Мазуркевич. СПб: Периферия. С. 169-174.
- Кравцов А. Е., 2002. О подходах к изучению мезолитических стоянок с нечеткой стратиграфией (по материалам памятников иеневской культуры)//ТАС. Вып. 5/Отв. ред. И. Н. Черных. Тверь: Кн.-журн. изд-во. С. 60-69.
- Кравцов А. Е., 2004. Об источниках для изучения волго-окского мезолита и некоторых принципах их анализа//Проблемы каменного века Русской равнины/Под ред. Х. А. Амирханова. М.: Научный мир. С. 29-48.
- Кравцов А. Е., Леонова Е. В., 2001. Структура памятников и вопрос периодизации мезолитической иеневской культуры//Каменный век Европейских равнин: объекты из органических материалов и структура поселений как отражение человеческой культуры: материалы междунар. конф. (Сергиев Посад, 1-5 июля 1997 г.)/Ред. Т. Н. Манушина и др. Сергиев Посад: Подкова. С. 133-142.
- Леонтьев О. К., Рычагов Г. И., 1979. Общая геоморфология. М.: Высшая школа. 287 с.
- Лозовская О. В., 2008. Деревянные изделия стоянки Замостье 2 по материалам раскопок 1995-2000 гг.//Человек, адаптация, культура: К 80-летию С. В. Ошибкиной/Отв. ред. А. Н. Сорокин. М.: Гриф и К. С. 273-297.
- Лозовская О. В., 2011. Деревянные изделия позднего мезолита -раннего неолита лесной зоны Европейской части России: комплексные исследования (по материалам стоянки Замостье 2): автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб: ИИМК РАН. 26 с.
- Лозовский В. М., 2001. Вопросы перехода от мезолита к неолиту в Волго-Окском междуречье (по материалам стоянки Замостье 2)//Каменный век Европейских равнин: объекты из органических материалов и структура поселений как отражение человеческой культуры: материалы междунар. конф. (Сергиев Посад, 1-5 июля 1997 г.)/Ред. Т. Н. Манушина и др. Сергиев Посад: Подкова. С. 265-272.
- Лозовский В. М., 2003. Переход от лесного мезолиту к лесному неолиту в Волго-Окском междуречье (по материалам стоянки Замостье 2)//Неолит -энеолит юга и севера Восточной Европы. Новые материалы, исследования, проблемы неолитизации регионов/Ред.: В. И. Тимофеев, Г. В. Синицына. СПб: ИИМК РАН. С. 219-240.
- Меньшиков Н. С., Обухов В. Ю., Косорукова Н. В., 2012. Исследование торфяниковой мезолитической стоянки Погостище 15 в бассейне озера Воже в 2012 г.//Геолого-археологические исследования в Тимано-Североуральском регионе. Т. 15/Ред. Н. П. Юшкин. Сыктывкар: Геопринт. С. 133-140.
- Ошибкина С. В., 1983. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья. М.: Наука. 295 с.
- Ошибкина С. В., 1997. Веретье 1. Поселение эпохи мезолита на Севере Восточной Европы. М.: Наука. 205 с.
- Ошибкина С. В., 2006. Мезолит Восточного Прионежья: культура веретье. М.: Гриф и К. 322 с.
- Рычагов Г. И., 2006. Общая геоморфология. М.: МГУ. 416 с.
- Сидоров В. В., 2009. Реконструкции в первобытной археологии. М.: Таус. 216 с.
- Сидоров В. В., Сорокин А. Н., 1997. Многослойное поселение Замостье 5//Древности Залесского края: материалы к междунар. конф. «Каменный век европейских равнин: объекты из органических материалов и структура поселений как отражение человеческой культуры (1-5 июля 1997, Сергиев Посад)/Ред. Т. Н. Манушина и др. Сергиев-Посад. С. 144-163.
- Сидоров В. В., Сорокин А. Н., 1998. Раскопки многослойного поселения Замостье 5//ТАС. Вып. 3/Отв. ред. И.Н. Черных. Тверь: Тверской гос. объединенный музей. С. 226-237.
- Сидоров В. В., Сорокин А. Н., 2001. Многослойная стоянка Замостье 5//Каменный век европейских равнин: объекты из органических материалов и структура поселений как отражение человеческой культуры: материалы междунар. конф. (Сергиев Посад, 1-5 июля 1997 г.)/Ред. Т. Н. Манушина и др. Сергиев Посад: Подкова. С. 142-146.
- Сорокин А. Н., 2014а. К вопросу о специфике костяных и роговых орудий в качестве археологических источников//Известия Иркутского государственного университета. Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология». Т. 7. С. 37-53.
- Сорокин А. Н., 2014б. Стоянка и могильник Минино 2 в Подмосковье: костяной и роговой инвентарь. М.: ИА РАН. 448 с.
- Сорокин А. Н., 2016. Очерки источниковедения каменного века. М.: ИА РАН. 248 с.
- Сорокин А. Н., Хамакава М., 2014. Геоархеологические объекты Заболотского торфяника на территории Европейской России//Известия Иркутского госуниверситета. Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология». Т. 10. С. 50-93.
- Цветкова Н. А., 2006. Ранний неолит Ивановской области: проблема выделения опорных памятников//Молодая наука в классическом университете: тез. докл. научных конференций Фестиваля студентов, аспирантов и молодых ученых. Иваново: ИвГУ. С. 25.
- Цветкова Н. А., 2011. Ранний неолит Верхнего Поволжья: некоторые итоги изучения//Российский археологический ежегодник. № 1. СПб: Университетский издательский консорциум. С. 148-182.
- Цветкова Н. А., 2012а. Памятники раннего неолита Верхневолжской системы озер: к вопросу о культурной атрибуции//Мезолит и неолит Восточной Европы: хронология и культурное взаимодействие: мат. межд. науч. конф., посвящ. 100-летию Н. Н. Гуриной/Отв. ред.: С. А. Васильев, В. Я. Шумкин. СПб: ИИМК РАН. С. 220-231.
- Цветкова Н. А., 2012б. Ранний неолит бассейна Верхней Волги (по результатам изучения каменной индустрии)//КСИА. Вып. 227. С. 271-280.
- Цветкова Н. А., 2013. Ранний неолит Верхней Волги и источники его изучения: материалы II междунар. конф. молодых ученых/Отв. ред.: В. Е. Родинкова, А. Н. Федорина. М.: ИА РАН. С. 42-43.
- Цветкова Н. А., 2014а. Культурная история Верхневолжского региона в контексте раннего неолита Центральной части Европейской России//Труды IV (XX) всероссийского археологического съезда в Казани. Т. I/Отв. ред.: А. Г. Ситдиков, Н. А. Макаров, А. П. Деревянко. Казань: Отечество. С. 367-370.
- Цветкова Н. А., 2014б. Периодизация и культурная история Волго-Окского неолита//Российский археологический ежегодник. Вып. 4. СПб: Университетский издательский консорциум. С. 89-110.
- Lozovski V. M., 1996. Zamostje 2. Treignes: Editions du Cedarc. 97 p.