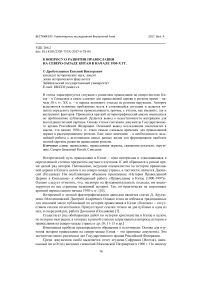К вопросу о развитии православия на северо-западе Китая в начале 1950-х гг
Бесплатный доступ
В статье характеризуется ситуация с развитием православия на северо-востоке Китая - в Синьцзяне в самое сложное для православной церкви в регионе время - начале 50-х гг. XX в. - в период активного отъезда из региона верующих. Автором выделяются основные проблемные места в сложившейся ситуации и делается попытка определить причины происходившего, причем, с учетом, как внешних, так и внутренних факторов. Проводится краткий историографический анализ имеющихся по проблематике публикаций. Делается вывод о недостаточности материалов для воссоздания полной картины. Основу статьи составили документы Государственного архива Российской Федерации. Основной вывод исследования заключается в мысли, что начало 1950-х гг. стало самым сложным временем для православной церкви в рассматриваемом регионе. Еще одно замечание - в необходимости дальнейшей работы с источниками самых разных видов для формирования наиболее полной картины развития православия регионе.
Православие, православная церковь, священнослужители, верующие, северо-западный китай, синьцзян
Короткий адрес: https://sciup.org/148317434
IDR: 148317434 | УДК: 266.2 | DOI: 10.18101/2305-753X-2017-4-78-84
Текст научной статьи К вопросу о развитии православия на северо-западе Китая в начале 1950-х гг
Исторический путь православия в Китае – тема интересная и становившаяся в определенной степени предметом научного изучения. К ней обращался в разное время целый ряд авторов. Несомненно, ведущим специалистом по истории православной церкви в Китае в целом и на северо-западе страны, в частности, является Дионисий (Поздняев). Им опубликовано объемное приложение «История Православной Церкви в Синьцзяне» к обобщающей работе «Православие в Китае (1900-1997)». Однако следует отметить, что, несмотря на фундаментальность подхода, им анализируются не все страницы названной истории. Так, он практически не затрагивает краткий период самого начала 1950-х гг. [10].
Интересной и полной фактографическими данными является статья Д. Арутюнова «Млодзяновский Дмитрий Андреевич. Однако и она не избежала традиционных для основной массе публикаций по истории православия в Китае «болезни» – отсутствием ссылок на источники. Присутствуют ссылки только на две публики и одна из них, в очередной раз, работа Дионисия (Поздняева) [7].
Существует ряд обобщающих работ по истории христианства в Китае в целом, по истории эмиграции, в которых в разной степени затрагиваются вопросы истории и православия на северо-западе страны и др. [9; 11-13 и др.]
Имеющиеся пробелы предопределили обращение к источникам. Основа для изучения истории православия на северо-западе Китая – это архивные документы. Это достаточно много различных дел Государственного архива Российской Федерации.
Среди документов особо выделяется отчет игумена Софрония (Иогеля), написанный им в Отдел внешних сношений Московской Патриархии в 1960 г. По нашему мнению он стал основой для некоторых имеющихся публикаций по истории православия в регионе [3, л.л. 76-86; Дионисий История, Православие в Китае]. Однако данный отчет не дает полного представления о ситуации с православной церковью в Синьцзяне в самом начале 1950-х гг., говоря только об отдельных аспектах ее существования. Здесь основой являются иные документы.
История православия в Синьцзяне начинается с появлением там русских. Происходит это в XIX в. В середине столетия русская фактория действовала в Чугучаке [7, л.л. 1-3]. Центрами православия в регионе XIX – начале XX вв., помимо Чугучака были Кульджа и Урумчи – места проживания русскоязычного населения.
В дальнейшем в регионе русских становилось все больше и, соответственно, активное развитие получает православие. Расцвет же его приходится на начало 1920-х гг., когда на Северо-Запад Китай бегут остатки разгромленной Оренбургской армии – отряды атамана А.И. Дутова и Семиречинской армии атамана В.А. Анненкова. С ними на китайскую территорию приходят священники: архимандрит Иона (Покровский), Феодосий (Солошенко) и Григорий (Штокалко). Еще одним центром православия становится Суйдун – ставка А.И. Дутова [3, л. 81; 9, с. 164].
В названное время сформировался костяк православных верующих на северо-западе Китая. И архивные источники, и имеющиеся публикации не говорят нам о православие в Синьцзяне в 30-е – середине 40-х гг. XX в. А вот дальнейшая судьба православия в регионе известна и видится достаточно сложной, сопровождавшейся противоречиями в среде верующих. Возникли они в 1933 г. между священниками Кульджи Григорием (Штокаленко) и протоиереем Петром Кочуновским. К моменту написания Софронием (Иогилем) названного выше отчета, причины конфликты были не известны [3, л. 83].
В начале 1950-х гг. внутренних противоречий в среде верующих Синьцзяна, противоречия в определенном смысле возникли между Московским Патриархатом и Восточно-Азиатским Экзархатом. Связано оно с тем, что, по некоторым данным, в 1946 (согласно Г. Арутюнову и Дионисию (Поздняеву) – в 1947 г.), по просьбе верующих региона Московский Патриархат назначил благочинного церквей Синьцзяна и настоятелем Свято-Никольской церкви в Кульдже протоиерея Дмитрия Млодзя-новского с подчинением благочиния к Московской Патриархии. В его состав входили приходы в Кульдже, Чугучаке, Урумчи, Лоуцоугоу [3, л. 84; 8; 9, с. 173; 10].
В документах встречаем, что появление в Синьцзяне протоиерея Дмитрия Млодзяновского происходит в 1950 г. согласно решению Совета по делам Русской Православной Церкви (РПЦ) при Совете Министров СССР. Дело 601 второй описи фонда Р6991 Государственного архива Российской Федерации хранит в себе решение Совета, отсюда нам эта дата видится более верной. Есть данные о том, на рубеже 40-х-50-х гг. XX в. Д. А. Млодзяновский находился в Москве в командировке [6, л. 90]. Но, как бы там ни было, данное назначение повлекло за собой продолжение конфликтной ситуации среди групп верующих. Они стали последователями протоиерея Д.А. Млодзяновского как ставленника Московского Патриархата и последователя Григория (Штоколенко), другие – протоирея П. Кочуновского как ставленника Восточно-Азиатского Экзархата.
Интересно, что значительная часть документов 1951-1952 гг. о названных противоречиях не упоминает, но говорит о сложности в согласовании кандидатуры священнослужителя в Синьцзян, который должен был заменить Д. А. Млодзяновского в должности благочинного, поскольку тот собрался в СССР на постоянное проживание. Встречаются данные о том, что вопрос о нахождении его в Китае поднимался и Советом по делам РПЦ, поскольку отчеты от него не поступали годами, и что проис- ходило с православием в регионе, было не известно. В части документов встречаем только краткие упоминания [3, л. 84; 4, л.л. 14, 164; 5, л. 97; 6, л. 90].
В 1951 г. Д. А. Млодзяновский возвращается в Кульджу для передачи дел. Однако дела, по сути, передавать было не кому. Священнослужитель, готовый взять на себя руководство благочинием отсутствовал.
В сложившейся ситуации видение того, кто должен возглавить благочиние у Патриархата и Экзархата были разные. Экзарх Восточно-Азиатского Экзархата Виктор (Святин) предложил к назначению в Кульджу священника Новосильцева, но его кандидатура не устроила Московский Патриархат, который выступил категорически против. Возможно, причиной стала незначительная известность Новосильцева. Архивные документы не содержат о нем сколько-нибудь подробных данных. В ответ Виктор предложил кандидатуру известнейшего протоиерея Михаила (Рогожкина). Она была согласована с посольством СССР в Китае. Однако сам М. Рогожкин не поехал [Ф. Р6991, Оп. 1, Д. 1002, Л. 56]. В архивных источниках не встречаем указания причины его отказа, но можем предположить, что связан он с местом его пребывания и положением на тот момент времени. М. Рогожкин проживал в Шанхае и менять его на отдаленный Синьцзян, вероятно, было не совсем логично. В то же время на начало 1950-х гг. он занимал в шанхайской общине верующих руководящие позиции и после некоторых противоречий между ним и первым Епископом Шанхайским Симеоном (Ду), совместно с ним начал проводить в жизнь идею самостоятельной китайской национальной православной церкви [1, л.л. 161, 184]. В такой ситуации уезжать в Кульджу не было никакого резона.
Ситуация продолжила развиваться в том же ключе. Экзархом предложена новая кандидатура протоирея Ростислава (Гана), который на тот момент был настоятелем Преображенской церкви г. Харбина, членом миссионерского попечительского совета и переводческого отдела данного совета. При этом Московский Патриархат в очередной раз выступил против данного предложения, мотивируя свою позицию тем, что лучше прислать священнослужителя из СССР, однако на деле такового не присылая [1, л.л. 55-56].
По мнению заведующего отделом Совета по делам Русской Православной Церкви тов. Карповича, предлагая Ростислава (Гана) Экзарха не учел, что он китаец по происхождению, а в Синьцзяне основная масса верующих - это русские, число которых доходило до 30 000 чел. Отмечалось, что Ростислав (Ган) просто решил сбежать из Харбина, так как со стороны русских верующих там заметны были «шовинистические» настроения в отношении священнослужителей - китайцев по происхождению [1, л. 57].
Отметим, что согласно иным данным верующих - русских по происхождению было приблизительно 25 000 чел. [1, л. 131]. В упомянутом выше отчете игумена Софрония (Иогеля) говорится о 20 000 чел. [3, л. 85].
Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР рекомендовал Московскому Патриархату отклонить кандидатуру протоиерея Гана под предлогом того, что священники-китайцы требуются в иных четырех епархиях Восточно-Азиатского Экзархата: Харбинской, Шанхайской, Пекинской и Тянцзинской. Второй рекомендацией стало пожелание прислать благочинного из СССР. Предложено две кандидатуры: священники Ушаков из Омска и Харламов из Ивановской области [1, л. 57]. Суля по всему, именно рекомендациям Совета по делам РПЦ и следовал Московский Патриархат. Однако дынных о том, кто именно стал благочинным в эти годы, в документах не встречено. Судя по тому, что Совет по делам РПЦ просил оставить в Кульдже протоиерея Дмитрия Млодзяновского, вопрос так и не был решен. При этом в случае такого решения Московского Патриархата и согласия самого Д. Млодзяновского его разрешалось отозвать в отпуск в СССР. В сою очередь, сам Д. Млодзяновский ходатайствовал перед Патриархом Преосвященным Алексием I (Симанским) о выплати жалования «за многие месяцы», так как он собирался отбыть в СССР [1, л. 117].
В сложившейся ситуации совершенно очевидным стал вопрос о необходимости существования благочиния на северо-западе Китая. Данный вопрос был поднят руководством Совета по делам Русской Православной Церкви. В связи с этим 30 августа 1952 г. состоялась объемная беседа Заместителя Председателя Совета С.К. Бе-лышева с консулом Министерства иностранных дел СССР в г. Кульджа тов. Гусаровым [1, л.л. 131-134].
Итогом беседы стало утвердившаяся позиция о необходимости сохранения благочиния на какой-то период. Это связано с большим количеством верующих, а в случае ликвидации благочиния официальной церкви, существует вероятность появления священника из белогвардейцев или китайца по происхождению. И то и иное не желательно. В первом случае начнется антисоветская пропаганда, а во втором это вообще не целесообразно, так как из 65 000 чел. «советских» 25 000 чел. русские и 45 000 чел. калмыки, киргизы и др., китайца они не воспримут. При этом в регионе действует несколько храмов: в Кульдже, Урумчи, Чугучаке и в других местах [1, л. 133]. В каких именно не сказано, но представляется, что это преувеличение для придания большей значимости ситуации. По архивным данным известно о трех названных церквях, о других речь в документах не ведется.
Согласно иным данным, граждан с советскими паспортами на территории Синьцзяна проживало до 100 000 чел., среди которых основная масса по вере – православные. Помимо них две общины баптистов и 2 пятидесятников (марионны и субботники) [1, л. 142].
Среди русских – православных, несмотря на значительно количество, поддерживающих советскую власть, имеются и враждебно к ней настроенные [1, л. 142].
Ситуация осложнялась еще и репрессиями в отношении верующих со стороны китайских властей, которые начались еще в конце 1940-х гг. Так, в 1947 г. была арестована группа баптистов, позже мусульман [1, л. 133].
В сложившейся ситуации в среде православных верующих шла активная агитация за возвращение (побег) в СССР. «Особенно агитировали за побег: Федоров, Греков, Дерябин, Поповы – учителя». Первыми в СССР отправились именно они, затем иные. Выезжали целыми семьями. Известно, что советские пограничники заворачивали их обратно. После это появилась идея написать прошение И.В. Сталину. Под ним подписалось около 6 000 чел. Зафиксирован факт демонстрации в 1952 г. к советскому консульству в Кульдже русских с плакатами «Да здравствует Родина». В ней участвовало до 5 000 чел. Консул просил разойтись, выдав анкеты на визу. Основным же «успокоителем» волнений выступил все тот же Д.А. Млодзяновский, вернувшийся к тому времени в СССР. Он с амвона просил верующих не нарушать порядок и люди послушались его [1, л. 143].
Отметим, что были жертвы. Есть данные об арестованных властями с конфискацией имущества. Какое-то количество было расстреляно. После этого в Кульдже появились представители Духовной миссии из Пекина. Волнения утихли, арестованных освободили, имущество вернули [1, л. 143].
Всего за время названных событий Синьцзян покинуло до 1 500 чел., которые к осени 1952 г. находились в лагере для беженцев около г. Джаркент (Казахстан). При этом около 2 000 чел. советские пограничники не пустили через границу и им пришлось вернуться обратно [1, л. 143].
После приезда представителей духовной миссии ситуация успокоилась. На День Победы в 1952 г. проведена служба, церковь при этом была переполнена. По призыву верующие собрали значительную сумму в местных деньгах и передали Комитету Защиты мира в пользу Корее. За это православная церковь получила благодарность китайского правительства, о чем была опубликована заметка в местной же газете [1, л. 144].
Вообще следует отметить, что в названное время не только Северо-Запад Китая стал местом, которое активно покидали верующие. Это относится, по сути, ко всей территории, где были православные. При этом бежали как в СССР, так и иные страны. Данный факт широко известен. Об этом говорится во многих документах, а так же в имеющихся публикациях [1, л.л. 3, 17, 192; 2, л. 21; 10 и др.]. Однако только в Синьцзяне данное веяние перешло в серьезные столкновения с властью. Связано это, очевидно, с количеством православных верующих в регионе, с количеством граждан, имевших советские паспорта.
Итогом произошедшего стало решение на неопределенное время сохранить благочиние на северо-западе страны. В то же время так и не был решен вопрос с благочинным. Экзарх Виктор (Святин), согласно одному из документов осени 1952 г. вообще отказался присылать священника в регион [1, л. 144]. Возможно, это связано с тем, что, как отмечалось выше, все предлагавшиеся им кандидатуры в итоге отклонялись Московской Патриархией.
Следует отметить, что отсутствие благочинного - это только «часть айсберга». На весь Синьцзян было всего три православных священнослужителя очень преклонного возраста и негодных к службам, т.е., по сути, все православие в регионе держалось на Д.А. Млодзяновском, который «рвался» уехать в СССР. Совет по делам Русской Православной Церкви просил Московский Патриархат направить ему в помощь священника из Советского Союза [1, л. 144].
Таким образом, в начале 1950-х гг. на Северо-Западе Китая сложилась сложнейшая ситуация с положением православной церкви. С одной стороны в регионе было большое количество верующих, действующие храмы, ощущалась поддержка от Московского Патриархат, в том числе финансовая, с другой не было священнослужителей. По документам складывается ощущение, что Экзарх Восточно-Азиатского Экзархата Виктор (Святин) не сильно стремился к решению данного вопроса. Дионисий (Поздняев) говорит о том, что тот пытался его решить, но этому мешали объективные обстоятельства: в Пекине подходящих священников не было, а из Харбина никто ехать не хотел. Отмечает он и несогласованность действий Москвы и Пекина [10].
Ситуация действительно сложилась странная. Патриархия не соглашалась с предложениями Экзарха, тот же, в свою очередь, возможно в силу иных забот и, возможно, удаленности Синьцзяна, вопрос решал достаточно долго. Активный отъезд верующих в 1954 г. возможно в чем-то предопределен отсутствием до этого времени пастыря. В 1952 г. Д.А. Млодзяновский покинул Китай, на его место никого не назначили, а П. Кочуновский в 1954 г. переехал из Кульджи в Шанхай. Отметим так же, что документы практически не содержат упоминаний о П. Кочуновском за 19511954 гг.
Представляется, что сложности в развитии православия в Синьцзяне во многом предопределены «болезнью», свойственной для православной церкви в Китае в данное время, в целом. Речь идет о наличии противоречий между духовенством и, соответственно, их последователями верующими. В недопонимании между Московской
Патриархией и Восточно-Азиатским Экзархатом, в не всегда присутствующем желании со стороны священнослужителей активно заниматься миссионерской деятельностью, переезжая с места на место.
На наш взгляд, начало 50-х гг. XX в. стало одним из самых сложных для православия в Северо-Западном Китае. Однако представляется, что на сегодняшний день история православного Синьцзяна изучена не до конца и в это время. Требуется дальнейшая серьезная работа с документами.
Список литературы К вопросу о развитии православия на северо-западе Китая в начале 1950-х гг
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Ф. Р6991, Оп. 1, Д. 1002.
- ГАРФ, Ф. Р6991, Оп. 1, Д. 1106.
- ГАРФ, Ф. Р6991, Оп. 2, Д. 300.
- ГАРФ, Ф. Р6991, Оп. 2, Д. 588.
- ГАРФ, Ф. Р6991, Оп. 2, Д. 589.