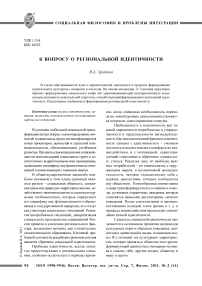К вопросу о региональной идентичности
Автор: Храпова В.А.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социальная философия и проблемы интеграции
Статья в выпуске: 2 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается идея о первостепенной значимости в процессе формирования идентичности культурных символов и смыслов. На основе концепции Л. Гумилева предложен вариант формирования социального мифа как уравновешивающей неупорядоченную соци- альную активность описательной стратегии, способствующей формированию позитивной иден- тичности. Рассмотрены особенности формирования региональной идентичности.
Регион, идентичность, история, ценности, научный подход, междисциплинарные исследования
Короткий адрес: https://sciup.org/14974458
IDR: 14974458 | УДК: 1:316
Текст научной статьи К вопросу о региональной идентичности
В условиях глобальной социальной трансформации встает вопрос о самоопределении личностей и социальных групп, интенсифицируется поиск ориентиров, ценностей и стратегий жизнедеятельности, обеспечивающих устойчивое развитие. Процессы самоопределения сопровождаются консолидацией социальных групп в соответствии с выработанными ими принципами, задающими специфику внутрисистемных отношений и коммуникации с внешним миром.
В общегосударственном масштабе наиболее значимой в этом плане единицей является регион – социальная общность, связанная едиными природно-территориальными, хозяйственно-экономическими и социокультурными особенностями, которые определяют его специфику как функционального образования в государственной иерархии, его статус как участника социальных отношений. Развитие центробежных тенденций, дискретизация социального пространства современной России привели к усилению регионального фактора, выделению региона как относительно самостоятельного образования. Ключевой проблемой для многих российских регионов сегодня является обретение социальной идентичности.
Проблема идентичности, всегда латентно присутствующая в региональном сознании, особенно остро встает в периоды кризи- сов, когда очевидная необходимость перехода на новый уровень самосознания становится вопросом самосохранения социума.
Необходимость в идентичности как таковой определяется потребностью в упорядоченности и предсказуемости жизнедеятельности. Как психологический феномен, идентичность связана с адаптивностью – умением достигать психологического комфорта во взаимодействии, и с мотивацией, характеризующей стремление к обретению социального статуса. Реализуя одну из наиболее важных потребностей – во взаимосвязях с окружающим миром, в коллективной жизнедеятельности, человек отождествляет себя с идеями, ценностями, которые сообщаются ему обществом. Разнообразные впечатления о мире трансформируются в сознании в смыслы, установки, стереотипы, ожидания, которые становятся важными регуляторами личного поведения. Путем сопоставления и противопоставления позиций, точек зрения и т. д. в процессе взаимодействия происходит становление личной идентичности.
Сущность социальной идентичности заключается в осознанном принятии индивидом культурных норм и образцов поведения, ценностных ориентаций и языка, понимании своего Я с позиций тех культурных характеристик, которые приняты в обществе или группе, формирующей ценностное отношение человека к самому себе, другим людям, обществу и миру в целом.
Значение социальной идентичности состоит в том, что она предполагает формирование у индивида определенных устойчивых черт, представлений о роли и месте в соответствующей социокультурной группе, о своих способностях и деловых качествах.
Очевидно, что наиболее эффективным путем создания новой идентичности является поиск в сфере общечеловеческих, культурных смыслов и образов. Представляется, что такие смыслы могут быть обнаружены в историческом прошлом народа, а использование современной научной методологии позволит превратить их в действенные социальные ориентиры.
В этом плане представляются перспективными идеи русского ученого, историка, основоположника пассионарной теории этногенеза Льва Николаевича Гумилева. Его теория построена на методологии системного изучения исторических сведений о климате, геологии и географии вмещающего ландшафта, а также археологических и культурных источников. Этнос рассматривается Гумилевым как замкнутая система дискретного типа, обладающая органичным и оригинальным мироощущением. В этнос входят субэтносы, назначение которых – поддерживать этническое единство путем внутреннего непротиворечивого соперничества. Чем более сложна структура этноса, тем он более устойчив. Универсальным критерием отличия этносов является стереотип поведения, который передается по наследству, но не генетически, а посредством механизма сигнальной наследственности, основанной на условном рефлексе.
Основу исследований Гумилева составила оригинальная пассионарная концепция этногенеза, с помощью которой он пытался объяснить закономерности исторического процесса. Под пассионарностью ученый понимал биофизический фактор, который проявляется в виде способности к изменению окружающей среды. Источник феномена пассионарности связывается Гумилевым с факторами космического порядка – с циклическими процессами солнечной активности. Поверхность Земли как экран принимает космические лучи, источником которых могут быть либо многолетние вариации солнечной активности, либо вспышки новых звезд. Большая часть их за- держивается ионосферой. Остальная часть, деформированная магнитным или гравитационным полем Земли, принимает облик геодезических линий, часть из которых обладает мутагенными свойствами. Человеческий разум соотносится с формулами энергопотоков и проводит действия, отвечающие их импульсам. Пассионарный толчок ведет к мутации – рождению пассионариев – индивидов с повышенной энергетичностью. Пассионарность не свойство сознания, а признак, характеризующий конституцию нервной системы. Он проявляется как необходимость, внутреннее стремление к деятельности.
Гумилев формирует закон, согласно которому «работа, выполняемая этническим коллективом, прямо пропорциональна уровню пассионарного напряжения, где пассионарное напряжение этноса – это количество имеющейся в этнической системе пассионарности, поделенное на количество персон, составляющих этнос. В развитии этноса Гумилев выделяет три параметра: мутацию, взрыв пассионарности и этнический реликт. Мутация и пассионарность соответствуют хаосогенной стадии развития. Пассионарность поглощает и выделяет огромный потенциал биохимической энергии, намного превышающий все затраты в нормальной жизнедеятельности, и мыслится как источник возникновения нового этноса. Этнический реликт свидетельствует о ставшей упорядоченности, которая оставалась тождественной самой себе на протяжении достаточно долгого времени. Пассионарность характеризует наивысшие подъемы в истории цивилизаций.
Разносторонние интересы Л.Н. Гумилева, его изыскания как геолога-географа были связаны с Поволжьем и, в частности, с Нижневолжским регионом.
Сведения о возникновении цивилизации на территории Нижнего Поволжья относятся к первому тысячелетию нашей эры и связаны с историей древних кочевых племен. Скифы, сарматы, гунны устраивали свои стоянки на пригодной для охоты и рыболовства волжской земле. К VII в. нашей эры население Нижнего Поволжья составляли фино-угорские и тюркоязычные болгарские племена. КХ столетию на этой территории уже сформировалось исламское государство во главе с ханом – Волжская
Болгария. В середине VII столетия в междуречье Волги и Дона образовалось государство Хазарский каганат.
Это была обширная федерация разных, главным образом тюркоязычных племен. Не считая хазар, в него входили племена болгар, савиров, отчасти аланов. Население занималось кочевым скотоводством, земледелием, ремеслами, распространялась письменность. Полукочевое-полуоседлое общество представляло собой пеструю картину. Официальной религией Хазарского каганата был иудаизм, заимствованный от евреев, переселившихся в Поволжье в начале VII в. из Византии. При этом сохранялась традиционная для язычников веротерпимость, поддерживалось христианство. Двухтысячная армия каганата состояла из мусульман.
С географической точностью описывает Л.Н. Гумилев картину этого времени: «По сухой степи струились чистые Волги, впадавшие в Каспийское море много южнее, чем впоследствии. Волга в то время была еще мелководна, протекала не по современному руслу, а восточнее – через Ахтубу и Бузан, где и образовалась дельта современного типа, простиравшаяся на Юг почти до полуострова Мангышлак. Опресненные мелководья стали кормить огромные косяки рыб. Берега протоков поросли густым лесом, а долины между буграми превратились в зеленые луга. Степные травы, оставшись на вершинах бугров, отступили на запад и Восток, а в ядре возникшего ландшафта зацвел лотос, запели лягушки, стали гнездиться цапли. Хазары распространились по тогдашней береговой линии... Они обрели богатейшие рыбные угодья, места для охоты на водоплавающую птицу и выпасы для коней на склонах буэровских бугров. Хазары принесли с собой черенки винограда и развели его на новой родине, доставшейся им без кровопролития по случайной милости природы.
Воинственные аланы и гунны, господствующие в степях Прикаспия, были не опасны для хазар. Жизнь в дельте сосредоточена около протоков, а они представляли собой лабиринт, в котором заблудится любой чужеземец. Течение в протоках быстрое, по берегам стоят густые заросли тростника, и выбраться на сушу можно не везде. Конница, попытавшаяся проникнуть в Хазарию, не смог- ла бы быстро форсировать протоки, окруженные зарослями. Тем самым она лишалась главного преимущества – маневренности, тогда как местные жители, умевшие разбираться в лабиринте протоков, могли легко перехватить инициативу и наносить врагам неожиданные удары, будучи неуловимыми» [2, с. 35].
История хазар, по мнению ученого, представляет собой уникальный образец аккумуляции пассионарных импульсов. «Целых 100 лет (558–650) тюркютские ханы использовали территорию Хазарии как базу для своих военных операций. В Хазарии тюркютские богатыри отдыхали после перехода через сухие степи, а по возвращении из Крыма или Закавказья “прогуливали” награбленную добычу. И тут наверняка не обходилось без женщин, которые, как известно, не бывают равнодушны к победителям. Дети, появившиеся после военных походов, искренне считали себя хазарами. Отцов своих они не знали, воспитаны были в среде хазар и ландшафте Волжской дельты. В наследство от тюркютов они получили только некоторые антропологические и физиологические черты, в том числе пассионарность. Географы тех лет делили хазар на два разряда: смуглых, черноволосых и белых, красивых, совершенных по внешнему виду» [там же, с. 44]. Поскольку такой симбиоз длился более ста лет, то естественно, что привнесенной чужаками пассионарности было достаточно, чтобы превратить реликт в активно действующий этнос.
«В VII веке в Нижнем Поволжье создались оптимальные условия для этногенеза: разнохарактерные ландшафты в тесном сочетании, соответствующие им хозяйственные уклады, сосуществование этнических субстратов, относящихся к единому евразийскому суперэтносу, и импорт пассионарности, позволивший оформить этническое разнообразие в социальную систему. Эта последняя была достаточно эластичной, чтобы вошедшие в нее этносы стали субсэтносами хазарского этноса, унаследовавшего название от предков» [там же, с. 260].
За полтораста лет самостоятельного существования крошечный тюрко-хазарский этнос не только отстоял свою независимость, но и расширил пределы своей державы до Дона на западе, Кавказского хребта на вос- токе. История, пережитая хазарским народом, показывает, что хазары были многочисленны и богаты. Главными занятиями их являлись земледелие и рыболовство, практиковалось и отгонное скотоводство, а виноградники и сады были неотъемлемой собственностью каждого хазарского рода [1, с. 16].
По описаниям путешественников известно, что Хазария активно торговала со многими государствами, маленькую Хазарию пронизывали глобальные международные связи.
Под воздействием опустошительных набегов печенегов в IХ в. Болгарское и Хазарское царства были разгромлены. В середине ХI в. волны кочевой экспансии с Востока вытеснили печенегов и принесли в волжские степи половцев – кочевой народ тюркского происхождения. В конце 1236 г. Волжская земля была захвачена татаро-монгольским ханом Батыем. На территории Астраханской области был расположен самый крупный центр Золотой Орды – ее столица Сарай, которая впоследствии была перенесена в район современного Волгограда.
К ХIII в. относится первое упоминание о русских поселениях на территории Нижнего Поволжья. На незаселенной степной полосе, соседствующей с Золотой Ордой, селились беглые от социальной зависимости, свободолюбивые представители разных сословий. Донские и приволжские степи постепенно превращались во владения казаков. Скорее всего, казачество начало появляться одновременно с оформлением новой государственной общности – России в связи с резким увеличением числа энергичных и деятельных людей. На границах государства они могли применить свои таланты, оставаясь недоступными для властей.
Волжская земля на протяжении столетий оставалась отдаленной окраиной русского государства. До ХIV в. население Поволжья не имело стабильного социального статуса. Казаки охраняли границы, несли службу по сбережению волжского торгового пути, ходили в походы против татаро-турецких захватчиков. Прозрачные границы и веротерпимость в казачьих общинах, а главное, независимость от центральной власти способствовали свободному притоку в них свободолюбивых представителей самых разных национальностей и сословий. Живущие «на окраине», счи- тая себя представителями русского государства, стремились к автономии и независимости.
Постепенно к XVII в. под влиянием российской государственной политики казачество из буйной и воинственной вольницы превращалось в часть государственной системы – военное или общевойсковое сословие, с закрепленными в обычае и законе и передающимися по наследству правами и обязанностями. Но в силу объективных причин казачество развивалось как военное сословие с внутренней общероссийской сословной структурой и создавало собственную традиционную культуру.
Процесс возникновения казачества и его история представляются как своеобразный феномен народного творчества в сфере общественных отношений, важнейшими чертами которого является общинная земельная собственность, выборное начало, самоуправление, автономность. Эти формы человеческого общежития наилучшим образом способствовали проявлению инициативы и всестороннему развитию личности, что представляло большую опасность для любого тоталитарного режима.
В первой половине XIX в. в процессе полиэтнического смешения и взаимодействия элементов самых разных этносов в рамках общей территории с ее природно-климатическими условиями, экономической, политической и культурной атмосферой завершилась консолидация русской и иных этнографических групп в новую этносоциальную общность. В этом сложном саморазвивающемся этническом образовании, продемонстрировавшем необыкновенную устойчивость на протяжении всей истории своего существования, удивительным образом совместилась горячая кровь горцев, неутомимость степняков – калмыков и бурят, степенность прибалтов, пунктуальность немцев и многие жизненно важные черты выходцев из других народов при безусловном доминировании славяно-русского влияния. Длительная и естественная эволюция при относительном отсутствии грубого вмешательства со стороны мощной централизованной силы обусловила изменения глубинного характера на генном уровне.
Волжская земля по-прежнему остается местом постоянной миграции многочисленных народов. Немцы, татары, осетины, кал- мыки, казахи, украинцы, поляки, армяне, расселившиеся на побережье русской реки, к XIX в. значительно расширили социальное пространство региона. Многочисленные этносоциальные группы сохранили устойчивость, которая проявляется в специфическом образе жизнедеятельности и особом отношении к миру.
Территория Нижнего Поволжья всегда имела пограничный характер, что определяло специфику и статус региона внутри Российского государства. Утрата идентичности, растворение в поле сильных и влиятельных тенденций общественного развития, диктующих свою семантику, для нашего региона означают не только утрату исторически сложившегося авторитета, но и невосполнимые политико-экономические потери, лишение самобытности и инициативы, резкое возрастание рисков маргинализации.
Необходимо учитывать, что регион – пограничная область, наиболее подвижная, динамичная часть государства. Функция границы – защита и связь с внешним миром, а значит, сохранение и развитие центра.
Для всего научного сообщества рубеж тысячелетий стал эрой пограничных маргинальных состояний, обещающей значительно расширить горизонты человеческого познания. Серьезное развитие получили исследования рубежных отношений, коммуникации. Осмысление этих процессов позволяет сделать вывод о том, что зоны взаимодействия природных, экономических, этнокультурных, информационных и других полей становятся источниками креативности, усиления энергетики, имеющей непосредственное отношение к эмоционально-чувственной сфере.
С одной стороны, переходные эпохи – время взрыва эсхатологических настроений, роста интереса к архетипу и мифу, актуализации идеи «вечного возвращения», цикличности в истории. С другой стороны, в эти периоды возрастает роль мыслящих и обладающих волей субъектов, сознательный выбор которых становится объективным фактором исторического процесса. В атмосфере, стимулирующей творческие потенции, в точке бифуркации, самый, казалось бы, незначительный элемент может определить выбор исторического пути. В такие периоды слово, речь приобретает важное историческое значение.
Для русской истории характерны взрывные разрушительные формы перехода, в результате которого утверждается отрицательное отношение к бывшей ранее системе ценностей и складывается новая система социальных ориентаций, которая затем также низвергается.
Ситуация, когда рушатся устоявшиеся стереотипы и не работают привычные схемы жизнедеятельности, – свидетельство того, что исчерпаны возможности рационального объяснения действительности на данном этапе. Кризис в духовном самочувствии людей может закончиться эффектом роста только в том случае, если найдется лидер и группа людей («интеллектуальная элита»), которые найдут или выработают формулировку идеи, способной разбудить эмоциональную память народа, активизировать тот жизнетворческий потенциал, который может оказаться актуальным.
Изменение картины мира, трансформации в общественном сознании сопровождаются интенсификацией процессов субкультурной стратификации и активизации диалогичности во взаимодействии. В ходе этих процессов обнаруживаются стратегические ресурсы как хозяйственно-экономического развития, так и духовного возрождения социума, этноса, государства.
В условиях современной социальной дезориентации (не увенчавшихся успехом попыток построения демократического общества, перманентного экономического кризиса, бесперспективной реформы образования и т.д.) важная роль принадлежит местным органам управления. Политические органы призваны создать ценностную систему, обеспечивающую стратегию жизнедеятельности, реабилитировать культурные доминанты, определяющие идентичность. Очевидно, что эти доминанты укоренены в историческом опыте. Среди них значительное место занимают элементы исторического знания, которые формируют систему средств и пространство общения, факторы взаимопонимания, представления о будущем, способы его достижения. Историческая память способствует консолидации социума, обеспечивая возможность управления.
Среди выдвигаемых идей наибольший отклик получают те, которые в наибольшей степени обеспечивают жизнеспособность общества. Как представляется, история о потомках пассионариев, воспитанных в культурно обогащенной среде, стремящихся не к завоеваниям, а к продуктивному мирному творчеству и бесконфликтным решениям противоречий, – исток картины мира, имея который как доминанту в своем мировоззренческом арсенале, социальная общность наделяет себя действенными в современной социальной среде адаптивными механизмами и регулятива-ми. Это интеллектуально обоснованная объединяющая идея, которая могла бы стать началом осмысленного социального творчества.
Идентичность – итог осмысления человеком самого себя в процессе социализации личности. Она является результатом идентифицирования с неким набором социально и культурно-релевантных качеств. Территориальная или региональная идентичность может быть отнесена к числу фундаментальных в структуре идентификационной матрицы человека.
Региональная идентичность – это целостность унаследованного и разделенного опы- та, дискурсивно структурирующего и нормирующего социальные практики, традиции и ценности. Обретая ее, человек осмысливает свою историю в ее соотнесении с историей страны, с большой историей. Такое осмысление приводит к наделению фактов истории значимыми смыслами и к формированию социальных мифов (как опыта описания и структурации, способного уравновесить неупорядоченное движение в обществе и противостоять хаосу неупорядоченного знания, неупорядоченного воления и социальной активности значительного числа индивидов), восстанавливающих чувство эмоционального и интеллектуального комфорта.
Подобное «мифотворчество» можно рассматривать как специфический эстетический процесс оформления и продвижения позитивной идентичности региона как во внутреннее, так и во внешнее пространство.
Список литературы К вопросу о региональной идентичности
- Артамонов, М. И. История хазар/М. И. Артамонов. -Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1962. -397 с.
- Гумилев, Л. Н. Открытие Хазарии/Л. Н. Гумилев. -М.: Рольф, 2001. -416 с.