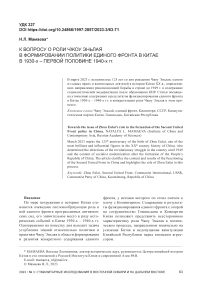К вопросу о роли Чжоу Эньлая в формировании политики единого фронта в Китае в 1930-х - первой половине 1940-х гг
Автор: Мамаева Н.Л.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История и культура Востока
Статья в выпуске: 3 (65), 2023 года.
Бесплатный доступ
В марте 2023 г. исполнилось 125 лет со дня рождения Чжоу Эньлая, одного из самых ярких и влиятельных деятелей в истории Китая XX в., определявших направления революционной борьбы в стране до 1949 г. и содержание социалистической модернизации после образования КНР. Статья посвящена уточнению содержания и результатов функционирования единого фронта в Китае 1930-х - 1940-х гг. и конкретизации роли Чжоу Эньлая в этом процессе.
Чжоу эньлай, единый фронт, коминтерн, ссср, коммунистическая партия китая, гоминьдан, китайская республика
Короткий адрес: https://sciup.org/170200011
IDR: 170200011 | УДК: 327 | DOI: 10.24866/1997-2857/2023-3/63-71
Текст научной статьи К вопросу о роли Чжоу Эньлая в формировании политики единого фронта в Китае в 1930-х - первой половине 1940-х гг
По мере погружения в историю Китая становится очевиднее системообразующая роль в ней единого фронта прогрессивных антияпон-ских сил, его значительное место в ряду исторических событий в Китае 1930-х – 1940-х гг. Одновременно на повестку дня выходит задача углубления знаний относительно политики и практики Чжоу Эньлая в области формирования и развития конкретного содержания единого фронта, у истоков которого он стоял плечом к плечу с Коминтерном. Содержание и результаты функционирования единого фронта с опорой на сотрудничество Гоминьдана и Компартии Китая позволяют представить всестороннюю характеристику роли Чжоу Эньлая в политическом процессе, направленном изначально на усиление Китая и недопущение капитуляции Китайской Республики перед японским агрессором.
В Китае личность Чжоу Эньлая (1898–1976), представителя первого поколения китайских революционеров, известного партийно-политического и государственного деятеля, формировавшего стратегию победы Коммунистической партии Китая (КПК) в демократической революции, одного из основателей КНР, пользуется глубоким уважением и любовью. Будучи человеком с активной жизненной позицией, участником практически всех значимых политических событий Китая 1920-х – 1970-х гг., он в любых условиях оставался одним из самых ярких и влиятельных деятелей страны, определявших направления революционной борьбы в Китае до 1949 г. и содержание социалистической модернизации после образования КНР. Его биография – яркое тому свидетельство. Занимая высокие посты в революционный период истории КПК, в КНР он продолжил руководящую работу. В 1949–1954 гг. занимал должность премьера Государственного административного совета, в 1954–1976 гг. – премьера Госсовета КНР, председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, в 1954–1958 гг. – министра иностранных дел.
В течение всей своей жизни Чжоу Эньлай открыто демонстрировал дружеские чувства к Советскому Союзу, к россиянам. Его роль в развитии добрососедских, а в иные исторические периоды и братских отношений между народами России и Китая, как, например, в «счастливое десятилетие» российско-китайской дружбы и сотрудничества – 1950-е гг., была весьма значительной. Не случайно, что деятельность Чжоу Эньлая, одного из главных вершителей политической и духовной истории Китая XX в., рассматривается в российском китаеведении с особым вниманием. Изучение истории КПК предпринимается нами в значительной степени через призму деятельности Чжоу Эньлая, которая охватывала множество проблем и направлений и неотделима практически от всех основных исторических событий Китая того времени.
Именно в России появилась уникальная книга о Чжоу Эньлае, вышедшая из-под пера классика российского китаеведения, уже ушедшего от нас академика С.Л. Тихвинского [6]. Его труд не только повествует об участии Чжоу Эньлая практически во всех значимых исторических событиях Китая 1920-х – 1970-х гг., но и выявляет его роль в организации революционного и политического процесса 1920-х – 1970-х гг. и руководстве им. В своей книге С.Л. Тихвинский, имевший тесные контакты со многими крупными государственными и политическими деятелями Китая, убедительно показал, что историю делают люди и Чжоу Эньлай – один из них.
К предыстории антияпонского национального единого фронта в Китае Публикации «Декларации ЦК КПК о сотрудничестве Гоминьдана и Компартии Китая» от 22 сентября 1937 г. и «Заявления Чан Кайши об установлении сотрудничества двух партий» от 23 сентября 1937 г., имевших официальный статус, предшествовали инициативы в данном направлении со стороны Гоминьдана, Компартии Китая и Коминтерна, причем Компартия Китая демонстрировала особый интерес к проблеме сотрудничества партий. Начало активности прогрессивных сил приходится на 1935 г. – год принятия Коминтерном на его VII конгрессе новой, более соответствующей требованиям времени стратегии революционного движения. Переход от советского движения как основного на антияпонское движение потребовал много усилий, вплоть до участия в организации этого процесса И.В. Сталина, придававшего исключительно большое значение определению оптимального пути развития китайской революции и советско-китайских отношений [2, с. 74].
Деятельность Чжоу Эньлая в данной ситуации сначала концентрировалась вокруг идеи прекращения гражданской войны в Китае как необходимой предпосылки усиления страны перед лицом японской агрессии. Приказ Чан Кайши о прекращении гражданской войны между Гоминьданом и КПК и реорганизации правительства от 24 декабря 1936 г., которому предшествовали так называемые Сианьские события, ускорившие его издание, являлся крупным переломным событием в китайской истории. Известна значительная роль в разрешении «конфликта интересов» в Сианьских событиях Чжоу Эньлая, возглавившего делегацию КПК по урегулированию ситуации в направлении прекращения гражданской войны и создания единого фронта антияпонских патриотических сил. После этого приказа пришла очередь обращения к идее сотрудничества патриотических антияпонских сил: отдельных личностей, движений, организаций и партий, включая Гоминьдан.
Результат принятия и публикации вышеназванных основополагающих для организационного и политического становления единого фронта документов 1937 г., в разработке которых активное участие принимал Чжоу Эньлай, был положительным. Открывалась дорога для сотрудничества двух партий – КПК и правящей партии Китайской Республики – Гоминьдана («Национальная партия») – по множеству направлений, определение и выявление которых в значительной степени осуществлялось Чжоу Эньлаем как главной фигурой формировавшегося единого фронта со стороны КПК.
Характеризуя внутриполитическую обстановку, в которой создавался единый фронт, обратим особое внимание на тот факт, что выдвигавшиеся в официальных обращениях КПК идеи и лозунги, направленные против японской агрессии и в том числе на установление взаимосвязи КПК с демократическими движениями и организациями, падали на благодатную почву. Речь идет о наличии элементов преемственности в развитии революционного процесса, которые характеризовались демократической направленностью и формировались, по сути, с Синьхайской революции (1911 г.), осуществившей свержение маньчжурского гнета и провозглашение республики. Отметим, что уже в документах КПК 1920-х гг. активно использовались такие термины, как «демократическая революция», «революционно-демократическое движение». В демократическом ракурсе воспринималось и понятие «единый фронт», которое имело свою историю с начала 1920-х гг. Одна из его основных характеристик – это расширение социального состава участников революционного процесса, вовлечение в него демократически ориентированных слоев населения, включая левую группировку Гоминьдана. В материалах Чрезвычайного совещания ЦК КПК (Пекин, 21–24 февраля 1926 г.) [3, с. 300], а также Чрезвычайного совещания ЦИК КПК Китая (13 декабря 1926 г.) [3, с. 450] выдвигались идеи расширения демократических составляющих революционного процесса, сближения с движениями «За объединение Китая», «За демократизацию общественного строя», «За возвращение народу власти в городе и деревне». Коммунистическому движению в Китае – как и Чжоу Эньлаю – были совсем не чужды демократические составляющие, в чем мы сможем убедиться далее.
В мае 1937 г. Коммунистическая партия Китая приняла решение отказаться от прежнего курса на советизацию страны и приняла установку Коминтерна на сотрудничество в рамках единого национального фронта с Гоминьданом и Нанкинским республиканским правительством (подробнее см.: [4, с. 453]). КПК рассчитывала при этом на получение возможности легальной деятельности на подконтрольных Гоминьдану территориях, на расширение политического влияния в масштабах всей страны и упрочение позиций коммунистов в национальном антияпонском движении.
Встроенный консервативными силами Гоминьдана в политическую среду тезис о ликвидации КПК как необходимой предпосылки начала военного сопротивления Китая Японии уступил место переговорному процессу между коммунистами и Гоминьданом как основному каналу сближения патриотических сил страны.
Переговорный процесс: некоторые характеристики
Чжоу Эньлай был назначен руководителем делегации КПК на переговорах с Гоминьданом, которые в течение февраля–сентября 1937 г. прошли шесть раундов. На переговорах обсуждался главный на тот момент вопрос – о формировании и содержании единого национального фронта борьбы против японских агрессоров. В результате переговорного процесса идея единого фронта получила частичную поддержку, причем не только на словах, но и на деле. В марте 1938 г. Чжоу Эньлай был назначен заместителем начальника политуправления Военного комитета Китайской Республики и управления по мобилизации народных масс при этом комитете. В конце 1938 г. он возглавил представительство КПК и 8-й армии в Чунцине. Получив большую, чем прежде, возможность ведения общественной и политической работы, а также выступая в качестве секретаря ЦК КПК, секретаря Южнокитайского бюро ЦК КПК и главного редактора «Синьхуа жибао», Чжоу Эньлай активизировал свое участие в организационной и пропагандистской сферах деятельности.
На практике сотрудничество партий и переговоры о его содержании и формах в течение января–июня 1937 г. осуществлялись, преодолевая трудности, медленно, но неуклонно. Центр тяжести в официальных и неофициальных контактах между КПК и Гоминьданом, Коминтерном и представителями Компартии
Китая концентрировался на определении содержания единого фронта. Это была нелегкая задача, решение которой потребовало дополнительных усилий со стороны переговорщиков, в том числе в формате личных встреч и бесед Чан Кайши и Чжоу Эньлая – усилий, которые не следует недооценивать. В этой связи обратим должное внимание на деятельность Чжоу Эньлая в данном направлении.
В организации и реализации строительства антияпонского единого фронта как явления, адекватного требованиям времени, Чжоу Эньлай продемонстрировал большие способности. Его восприятие места и роли единого фронта сопоставимо с задачей политического строительства с китайской спецификой. Именно в этом ракурсе Чжоу Эньлай стремился выстроить организационный статус единого фронта. В ходе переговорного процесса он проявил выдающиеся способности переговорщика, обладающего глубокими знаниями о положении в стране, особенностях революционного процесса в Китае, истории КПК и национально-освободительного движения в Китае. В дискуссиях о содержании политики единого фронта Чжоу Эньлай продемонстрировал знание теоретического наследия Сунь Ятсена, политики и практики Гоминьдана, которое накладывалось на опыт работы, полученный в 1920-х гг. и тесно связанный с деятельностью коммунистов в период первого единого фронта (1924–1927 гг.). Не останавливаясь подробно, отметим, что после возвращения в Китай из Европы в 1924 г. Чжоу Эньлай стал активным проводником политики «первого сотрудничества КПК и Гоминьдана», оказывал значительную помощь в реорганизации Гоминьдана и его превращении в «партию действия» [5].
Благодаря опыту сотрудничества с Гоминьданом в рамках первого единого фронта китайские коммунисты демонстрировали высокую планку в оценке революционной ситуации в Китае 1920-х гг. Они более объективно, чем Коминтерн, оценивали революционный потенциал Гоминьдана, то есть не завышали его, а также подвергали сомнению якобы существовавшую готовность Национально-революционной армии (НРА) Китайской Республики к перерождению в направлении коммунистических идеалов. В период Северного похода НРА (1926–1928 гг.), важнейшего события революционного движения в Китае 1920-х гг., китайские коммунисты сотрудничали с Гоминьданом в различных формах, приближая победу НРА. Они адекватно воспринимали значительную роль военного фактора в истории Китая и в дальнейшем, в 1930-е – 1940-е гг., включили в собственную теорию и революционную практику военную политику как центральное звено [5, с. 343].
Первое сотрудничество Гоминьдана и КПК в рамках единого фронта в 1920-х гг. демонстрировало как успехи, так и неудачи. В основе деятельности первого единого фронта лежали отношения сотрудничества, которые плодотворно использовались для решения целого ряда важнейших проблем: при разработке программных положений партии Сунь Ятсена, формировании теории и практики становления Гоминьдана как политической «партии действия», при строительстве новой государственности и новой армии. Объединение революционных сил в 1920-е гг. складывалось и развивалось под флагом борьбы с системой регионального милитаризма, поставившей Китай на грань раскола, утраты демократических завоеваний Синьхайской революции, перед лицом возросшей угрозы империалистического давления вплоть до возможности потери национального суверенитета. Одним словом, единый фронт 1920-х гг. сыграл в непростой ситуации в Китае значительную роль.
Формат взаимодействия Чан Кайшии Чжоу Эньлая
Формирование содержания антияпонского единого фронта осуществлялось с опорой на научный подход, на знание социально-экономической и политической ситуации в стране, а также национальной специфики революционного процесса, что не исключало использования традиционного для Компартии Китая метода проб и ошибок. В разряд особенностей функционирования революционного процесса можно включить неформальные контакты Чан Кайши и Чжоу Эньлая, которые осуществлялись в формате дополнительных обсуждений проблем единого фронта. Неформальные контакты развивались параллельно с официальными переговорами представителей КПК и Гоминьдана, формировавшимися в рамках единого фронта. Первые переговоры Чжоу Эньлая с Чан Кайши состоялись в Ханчжоу 26 марта 1937 г. В ходе беседы затрагивались наиболее острые вопросы текущего этапа формирования единого фронта. К ним относились вопросы военной политики обеих сторон, в том числе была озвучена возможность получения Компартией трех дивизий общей численностью в 40 000 бойцов, плюс еще 10 000 бойцов местной охраны. Одновременно Чан Кайши отклонил важную идею Чжоу Эньлая о представительстве Коммунистической партии Китая в одном из важнейших органов власти Китайской Республики – Национальном собрании, подготовка к выборам которого набирала в Китае обороты. Также Чан Кайши была отклонена просьба об освобождении политзаключенных [1, с. 1103].
Вторые переговоры Чжоу Эньлая с Чан Кайши продемонстрировали тенденцию более мягкого отношения последнего к коммунистам и стремление к поиску компромиссных решений. Переговоры имели место в середине июня 1937 г. Отдельные решения в области формирования властных структур и управления в некоторых пограничных районах подтверждали уже принятые на первых переговорах Чжоу Эньлая и Чан Кайши решения. В основном пограничном районе Шэньси–Ганьсу–Нинся коммунисты получили право на выдвижение кандидатуры Председателя правительства района, было объявлено согласие Чан Кайши с возможностью дополнительного финансирования войск КПК и отдельных направлений административной политики в освобожденных районах. Получили поддержку, хотя и ограниченную, не принятые на первых переговорах принципиально важные предложения Чжоу Эньлая об участии КПК в выборах в Национальное собрание и об освобождении политзаключенных коммунистов. Было заявлено о допущении коммунистов к участию в работе конференции по вопросам национальной обороны. Главным результатом взаимодействия Чан Кайши и Чжоу Эньлая представляется переход Чан Кайши на позицию сотрудничества с КПК, хотя и с обращенным к ней призывом о сдержанности, а также одобрение идеи демократизации управления и вовлечения в демократическое движение анти-японских группировок [1, c. 1118–1121]. Так, с упором на отдельные конкретные мероприятия складывалось содержание единого фронта, в том числе его тесная связь с политикой и управленческой практикой Компартии Китая в освобожденных от японского агрессора районах.
Не будем преувеличивать положительные результаты неформального взаимодействия Чжоу Эньлая и Чан Кайши и отметим обстоятельства, препятствовавшие реализации даже уже принятых решений. Сохранялось недоверие между Компартией Китая и Гоминьданом, что снижало эффективность деловых контактов [2, с. 329–330]. Карательные походы гоминьдановских войск и жесточайший гоминьдановский террор конца 1920-х – начала 1930-х гг. не были забыты коммунистами. Отметим факт неприятия Чжоу Эньлаем идеи диктатуры Гоминьдана в любой форме, в том числе в форме подчиненности КПК Отделу политической подготовки. Имела также место несогласованность по вопросу переформирования войск, а также по организационным вопросам, включая предложение Гоминьдана о создании Национальной революционной союзной лиги в составе определенного числа кадровых работников Гоминьдана и равного числа кадровых работников Компартии под председательством Чан Кайши [2, с. 336]. Идея председательства Чан Кайши в Союзной лиге воспринималась Чжоу и его коллегами, китайскими коммунистами, с большим опасением, что имело под собой определенные основания.
Одна из важнейших причин сохранявшегося недоверия Компартии Китая к Гоминьдану видится в нерешенности проблемы легализации КПК в районах, освобожденных коммунистами от японской оккупации. Более того, в теоретическом плане Гоминьдан не предусматривал полной легализации КПК в Китайской Республике. Требование введения полной легализации Коммунистической партии правомерно выдвигалось Чжоу Эньлаем в качестве необходимой предпосылки создания программного обеспечения деятельности единого фронта. При этом подчеркнем, что Чжоу Эньлай изначально не преувеличивал достоинств Гоминьдана и не имел особых надежд на тесное сотрудничество КПК и Гоминьдана. В своей переписке с Г. Димитровым от 15 марта 1941 г. Чжоу Эньлай характеризовал Чан Кайши как «олицетворение давления, угрозы и обмана» [2, с. 519].
Подходы Чжоу Эньлая к изучению проблем единого фронта демонстрировали тенденцию широкого охвата исторических событий и рассмотрение ситуации с единым фронтом на фоне общего текущего положения в стране. Именно такой подход обеспечил Чжоу результативность в изучении и реализации многовекторной политики единого фронта. Взаимодействие Чжоу Эньлая и Чан Кайши в формате неформальных контактов внесло свою лепту в формирование политики сближения между партиями, сдерживало усиление влияния про-японских группировок в Гоминьдане и в итоге выполнило свою роль в недопущении капитуляции Китайской Республики перед японским агрессором, способствовало стабилизации на определенный период мирного сотрудничества КПК и Гоминьдана.
Как свидетельствуют источники, деятельность Чжоу Эньлая как основного переговорщика, а по сути теоретика и практика политики единого фронта вызывала у Чан Кайши большой интерес и своего рода признание. Как правило, беседы Чжоу Эньлая и Чан Кайши инициировались Чан Кайши. В ходе этих встреч регулярно обсуждались принципиально важные вопросы, осуществлялось сближение партий и укрепление единого фронта.
Чжоу Эньлайо проблемах единого фронта
Будет не преувеличением отметить особое место Чжоу Эньлая в сложной политической ситуации в Китае конца 1930-х гг. – начала 1940-х гг. Немало интересной информации о развитии единого фронта в течение 1937–1939 гг. содержит Доклад Чжоу Эньлая по китайскому вопросу Президиуму Исполнительного комитета Коммунистического интернационала (ИККИ) (Москва, 29 декабря 1939 г.), который с полным основанием может рассматриваться как один из наиболее значимых исторических источников, освещающих проблемы антияпонского единого фронта. Рассмотрение в докладе проблем единого фронта на фоне характеристики положения в стране делает оценки и характеристики Чжоу более убедительными. Многие темы и направления, обсуждавшиеся в течение 1937 г. с участием представителей обеих партий, получили свое развитие. Чжоу Эньлаем были выдвинуты также новые ориентиры и предложения. Определенные надежды в плане разрешения проблем сотрудничества Гоминьдана и КПК и развития демократического процесса в системе управления возлагались на учрежденный в 1938 г. Национальный политический совета (НПС) как на консультативный орган власти. Хотя сотрудничество на платформе НПС имело место, независимо от этой реальности на местах продолжалась практика арестов коммунистов [2, с. 329–330].
Подчеркнем особое внимание Чжоу к внедрению в процесс государственного строительства элементов парламентаризма и демократизации политической системы как на центральном уровне, так и в локальных масштабах. Как отмечал Чжоу Эньлай, развитию демократических составляющих политического процесса активно препятствовал Гоминьдан, в том числе фактическим непризнанием легального положения КПК даже в Северном Китае, где уже использовался опыт объединенных комитетов или совместных совещаний Гоминьдана и КПК [2, с. 342–343].
Согласно Чжоу Эньлаю, работа в направлении превращения НПС в блоковую партию имела место, однако в результате непоследовательной политики Гоминьдана и чинимых финансовыми компрадорами англо-американской ориентации препятствий попытки реорганизации властных структур в Китайской Республике в рамках единого фронта не увенчались успехом.
Легализация Компартии Китая правомерно предусматривалась Чжоу Эньлаем в качестве необходимой предпосылки важных принципиальных начинаний программного и организационного плана. Чжоу выдвинул ряд конкретных предложений по содержанию единого фронта: от больших проектов до второстепенных. Так, предложение Чжоу по разработке общей программы единого фронта звучит следующим образом: «Общей программой единого фронта могла бы стать Программа антияпонской войны и Строительства государства Сунь Ятсена». Политическую основу единого фронта Чжоу Эньлай видел в учении Сунь Ятсена о «трех народных принципах» [2, с. 330–331, 336–337]. Интересные предложения Чжоу Эньлая о программном обеспечении единого фронта не удалось реализовать по ряду причин. К ним относится в первую очередь, как уже упоминалось, сохранявшееся взаимное недоверие партий друг к другу. Ситуация осложнялась склонностью Чан Кайши к однопартийной диктатуре.
Провозгласив организационной основой единого фронта сотрудничество КПК и Гоминьдана, Чжоу обозначил задачи, требующие быстрого решения: расширение единого фронта через вовлечение в сферу его деятельности народных масс, особенно мелкой буржуазии, а также дружественных партий и дружественных армий. Ключевым принципом единого фронта Чжоу Эньлай справедливо провозглашал укрепление единого фронта как гарантии продолжения антияпонской войны. Одним из важнейших направлений деятельности единого фронта вы- двигал борьбу против попыток международного империализма, направленных на ухудшение взаимоотношений между Китаем и СССР.
Особое внимание Чжоу Эньлай уделял вопросу о формах сотрудничества Гоминьдана и КПК – вопросу, который имел свою историю в связи с опытом «первого сотрудничества КПК и Гоминьдана». По словам Чжоу Эньлая, КПК рассматривает и обсуждает три формы сотрудничества: первая – вступление коммунистов в ряды Гоминьдана с сохранением прежней партийной принадлежности1, вторая – создание объединенного комитета КПК и Гоминьдана, третья – «сохранение нынешних взаимоотношений, причем официально не оформленных» [2, c. 342–343].
Высокий интеллектуальный уровень Чжоу Эньлая, знание им истории Китая и Компартии Китая, политической программы Сунь Ятсена и Гоминьдана, истории и содержания первого единого фронта, а также наличие большого опыта по формированию национального антиимпериалистического движения 1920-х гг. были той основой, на которой Чжоу Эньлай систематизировал свои знания проблем антия-понского единого фронта, обобщал и формулировал свои оценки и конкретные предложения в направлении выявления и углубления содержания сотрудничества. Помимо стремления к программному и организационному обеспечению деятельности единого фронта Чжоу осуществлял движение вперед и в направлениях, тесно связанных с вопросами военной политики Китайской Республики, в первую очередь – с военной политикой КПК по вопросам переформирования Китайской Красной Армии (ККА) и системы управления в пограничном районе Шэньси–Ганьсу–Нинся. Проблемы демократизации власти рассматривались им не только в границах основного пограничного района, но и в масштабе Китайской Республики, включая деятельность Национального политического совета. Под углом зрения демократизации системы управления выдвигалась задача организации демократических выборов в Национальное собрание. При этом упомянутые направления работы правомерно ставились в зависимость от достижения полной, то есть в масштабах всей страны, легализации КПК. Между тем, наибольшую осведомленность Чжоу Эньлай проявлял в вопросах установления демократического правления в локальных масштабах, прежде всего – в Основном пограничном районе Шэньси– Ганьсу–Нинся, считая этот район показателем демократического правления, имеющим опыт выборов властных структур на основе всеобщего избирательного права [2, c. 345–347].
Вызывает большой интерес проделанная Чжоу Эньлаем работа в области партийного строительства и партийно-организационной деятельности КПК. В Докладе Чжоу Эньлая по китайскому вопросу Президиуму ИККИ (Москва, 29 декабря 1939 г.) содержалась принципиально важная и интересная информация о существовании пяти форм работы Компартии на китайской территории: легальной (в пограничном районе), полулегальной (в 8-й и 4-й армиях), легальной в сочетании с нелегальной (в партизанских районах), в основном нелегальной (где власть у Гоминьдана), строго подпольной (в районах, оккупированных Японией). На примере основного пограничного района Чжоу Эньлаем был детально прописан процесс создания демократических органов власти на местах [2, c. 345– 347, 350–351], который использовался в ходе дальнейшей работы партии в освобожденных от японского агрессора районах.
Следует отметить, что вплоть до наиболее ожесточенного «конфликта интересов» между Гоминьданом и КПК в Южном Аньхуэе в 1941 г., имевшего форму вооруженного противостояния военных сил Гоминьдана и КПК, жесткого давления Гоминьдана на прогрессивных деятелей и на малые партии, развивалось многостороннее изучение и практика единого фронта, возникали новые идеи, как и предвидел Чжоу Эньлай. Кроме того, усиливалось направление привлечения в единый фронт малых партий.
Нельзя сказать, чтобы события с 4-й армией были совершенно неожиданными, но все же сохранялась надежда на мирное развитие взаимоотношений между КПК и Гоминьданом. При этом подчеркнем, что Чжоу Эньлай, сохранявший четкие и реалистичные требования к оценке Гоминьдана, не был склонен к преувеличению его достоинств. Как отмечалось в его Докладе по китайскому вопросу Президиуму ИККИ от 29 декабря 1939 г., Гоминьдан проявлял непоследовательность в отношении единого фронта: то признавал его заслуги, то отменял свое признание [2, с. 337]. В неблагоприятной атмосфере обострения отношений между КПК и Гоминьданом Чан Кайши все же предприни- мал усилия в поиске соглашения компромиссного характера. В ходе этих событий Чан Кайши неоднократно посылал своих представителей к Чжоу Эньлаю, который считал, что события в Южном Аньхуэе подорвали доверие к Гоминьдану. Хотя острая фаза противостояния была пройдена, однако в повседневной жизни поток жестких мер Гоминьдана не остановился. Оказывалось давление на прогрессивных деятелей, имело место удаление членов КПК из ряда провинциальных правительств, устранялись профессура и учителя из учебных и научных заведений, оказывалось давление на союз «За демократический режим». В целях сокращения числа «негоминьдановцев» в составе Национального политического совета осуществлялись перевыборы его членов.
О результатах политики единого фронта
Хотя единый фронт так и не принял четкой организационной и юридической формы, что, как и в случае с первым единым фронтом, снижало его эффективность, однако по ряду направлений сотрудничество партий демонстрировало успех. Это означает, что на базе перехода от гражданской войны к войне с японским агрессором еще в ходе переговоров делегации КПК в Лушани (Чжоу Эньлай, Цин Бансянь, Линь Бо-цюй) с Чан Кайши в июне 1937 г. была достигнута договоренность по ряду важных вопросов, в том числе по реорганизации правительства советского района Шэньси–Ганьсу–Нинся в демократическое правительство Особого района с подчинением его гоминьдановской власти. Была скорректирована военная политика. 11 сентября 1937 г. была переименована и вошла в 18 армейскую группировку 8-я армия НРА. В Сиани было учреждено постоянное представительство КПК, где жил и работал Чжоу Эньлай, а в Нанкине – официальное представительство ЦК Компартии Китая и 8-й армии, в Ухани, Чунцине – представительства КПК.
Официальное провозглашение сотрудничества Гоминьдана и КПК как организационной и политической формы взаимодействия по широкому кругу вопросов имело глубочайший резонанс, в том числе в гоминьдановской среде и коммунистических кругах. По сути, единый фронт открыл новые возможности как для страны в целом, так и для Гоминьдана и КПК в отдельности. Для Компартии Китая, получившей в некоторых районах официальный легальной статус, улучшились, хотя и с ограничениями, условия отработки на практике основных форм стратегии и военно-политической новодемократической тактики: маневренно-партизанская война вооруженных сил КПК, создание опорных баз в тылу японских войск и ряд других элементов партийной линии, которые более четко обозначились в ходе Антияпонской войны (1937–1945 гг.).
Отметим, что в рамках единого фронта были достигнуты и принципиально важные результаты – такие, как вступление Китайской Республики в войну Сопротивления с японским агрессором и недопущение объединенными силами единого фронта на полях сражений и в тылу капитуляции Китая перед Японией, свершение которой имело бы роковые последствия для Советского Союза. Роль Чжоу Эньлая как главы делегации КПК на переговорах с Гоминьданом, одновременно – постоянного участника неформальных бесед с Чан Кайши, члена Северного бюро КПК, Президиума ЦИК КПК, члена ИККИ в течение 1931–1943 гг. можно определить коротко, но четко – как выдающуюся даже на фоне его именитых единомышленников и коллег.
Нельзя не назвать в качестве одного из важнейших факторов характеристики и содержания единого фронта включение в сферу его деятельности развития советско-китайских отношений. Содержание данного направления, получившего адекватное отражение в советско-китайском Договоре о ненападении (21 августа 1937 г.), продемонстрировало подкрепленное финансовой поддержкой СССР усиление Китайской Республики как единственной официальной власти в стране, прорыв международной блокады Китая и провал надежды Японии на реализацию в Китае идеи молниеносной войны. Наряду с выгодами для Китайской Республики советско-китайские договоренности предусмотрели поддержку не только Гоминьдана, но и идеологического соратника СССР – Компартии Китая. Не останавливаясь подробно на освещении сюжетов, связанных с взаимодействием единого фронта и международной политики, отметим как факт развитие в послевоенное время тенденции сотрудничества КПК с демократически ориентированными партиями и движениями, сыгравшими значительную роль в победе демократической революции в 1949 г. под руководством КПК. Можно сказать, что многовекторное функционирование антияпонского единого фронта прокладывало дорогу вовлечению в революционный процесс демократически ориентированных партий и движений, который развивался параллельно и взаимосвязано с процессом формирования новодемократических идей и практик Мао Цзэдуна.
Список литературы К вопросу о роли Чжоу Эньлая в формировании политики единого фронта в Китае в 1930-х - первой половине 1940-х гг
- ВКП(б), Коминтерн и Китай: документы. Т. 4. ВКП(б), Коминтерн и советское движение в Китае. 1931-1937. Ч. 2. М.: РОССПЭН, 2003.
- ВКП(б), Коминтерн и Китай: документы. Т. 5. ВКП(б), Коминтерн и КПК в период антияпонской войны. 1937 - май 1943. М.: РОССПЭН, 2007.
- Документы по истории Коммунистической партии Китая. 1920-1927 гг. М.: ИДВ РАН, 2021.
- История Китая с древнейших времен до начала XXI в.: в 10-ти т. Т. 7. Китайская Республика (1912-1949). М.: Восточная литература, 2013.
- Мамаева Н.Л. Коминтерн и Гоминьдан. 1919-1929. М.: РОССПЭН, 1999. EDN: XSDNYD
- Тихвинский С.Л. Путь Китая к объединению и независимости, 1898-1949: по материалам биографии Чжоу Эньлая. М.: Восточная литература, 1996.