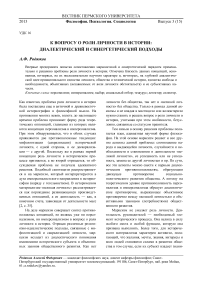К вопросу о роли личности в истории: диалектический и синергетический подходы
Автор: Родюков Алексей Федорович
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (15), 2013 года.
Бесплатный доступ
Впервые предпринята попытка сопоставления марксистской и синергетической парадигм применительно к решению проблемы роли личности в истории. Отмечена близость данных концепций, основанная, во-первых, на их последовательно научном характере и, во-вторых, на глубокой диалектической идее принципиального единства личности, общества и человеческой истории, единства свободы и необходимости, объективных (независимых от воли личности обстоятельств) и ее субъективных качеств.
Персонализм, имперсонализм, выбор, социальный отбор, тезаурус, детектор, селектор
Короткий адрес: https://sciup.org/147202951
IDR: 147202951 | УДК: 16
Текст научной статьи К вопросу о роли личности в истории: диалектический и синергетический подходы
Как известно, проблема роли личности в истории была поставлена еще в античной и древневосточной историографии и философской мысли. На протяжении многих веков, вплоть до настоящего времени проблема принимает форму ряда теоретических оппозиций, главными из которых являются концепции персонализма и имперсонализма. При этом обнаруживается, что в обоих случаях проявляются две противоположные тенденции: мифологизации (сакрализации) исторической личности, с одной стороны, и ее десакрализации — с другой. Поскольку же в рамках первой концепции роль личности в историческом процессе признается, а во второй отрицается, то обсуждаемая проблема не получала адекватного решения. Подобный скептицизм распространяется и на марксизм, который интерпретируется в духе имперсоналистского направления в историософии (наряду с гегельянством). В историческом материализме «великая личность» рассматривается как порождение развивающихся производственных отношений, а ее деятельность — как, в конечном счете, зависящая от деятельности масс [2, с. 35].
На деле марксизм совершает синтез противоположных концепций, не являясь уже ни персонализмом, ни имперсонализмом в вопросе о роли личности в истории. Отрицая различные религиозно-идеалистические подходы, связанные с мифологизацией и сакрализацией личности, марксизм исходит из диалектического понимания взаимосвязи исторического субъекта и объективных законов общественного развития. Как нет личности без общества, так нет и «великой личности» без общества. Только в рамках данной аксиомы и не впадая в мистицизм или волюнтаризм нужно ставить и решать вопрос о роли личности в истории, учитывая при этом особенности, безусловно, связанные со статусом правителя.
Тем самым в основу решения проблемы полагается идея, адекватная научной форме философии. На этой основе марксизм решает и все другие аспекты данной проблемы: соотношение народа и выдающейся личности, случайности и необходимости в становлении и деятельности «великой личности», ее успешность или не успешность, замена ее другой личностью и пр. По сути, все эти аспекты можно свести к парным диалектическим противоположностям, образующим движущее противоречие социальнополитического развития общества. А потому на теоретическом уровне противоположность персонализма и имперсонализма образует диалектическое противоречие, выражающее объективное противоречие между «великой личностью» и объективными законами (потребностями) общественного развития.
Марксизм не умаляет роль личности. Деятельность руководителей — необходимый элемент исторического процесса. Она велика в силу особого места и особой функции, которую она призвана выполнить. Более того, для исторического материализма характерен активизм, полагающий, что желания, мечты, знания, интересы и воля людей становятся силами в развитии общества в том случае, если их субъект владеет знани-
ем о законах общественно-исторического развития. Таким образом, и активизм народных масс, классов, социальных групп, и активизм «великой личности» определяются степенью осознания и использования ими объективных потребностей прогрессивного исторического развития. Выдвижение личности обусловливается и потребностями общества, и личными качествами людей. Таковы марксистские диалектические основания решения проблемы роли личности в истории с их ориентацией на усмотрение смысла исторических событий, переступающих пределы причинного объяснения. Все остальные аспекты этой развитой теории переводятся на эмпирический уровень и носят, по сути, феноменологический характер, основанный на исторических обобщениях.
Не ставя под сомнение научный и диалектический характер данной концепции, отметим, что все же присущий марксизму холизм и склонность к тотальности не способны были раскрыть «механизмы» выдвижения исторических деятелей, тонкие и неочевидные детерминации подобных процессов. В целом концепция прекрасно описывает различные аспекты роли «великой личности» в истории государства. Однако понятие отбора как объяснительного принципа здесь отсутствует. У Маркса данное понятие встречается главным образом в его экономической теории («конкуренция») и в его обращении к евгенической проблематике, где он отмечает разрушительный для человеческой биологии характер отбора при капитализме — «вырождение промышленного населения…» [4, с. 279]. В рамках же рассматриваемой проблемы понятие отбора сужается до отрицательного выражения реакции социальной среды на лидера. Это понятие имеет здесь скорее смысл «выбраковки» исторической личности как приговор общества за неоправданные в отношении этой личности ожидания. Тем самым понятие отбора сужается до значения чего-то локального, не связанного с эволюционным механизмом исторического развития. В качестве такового процесс отбора лишь «приспосабливает» деятельность «великой личности» к заранее заданной прогрессивной эволюции социума.
Именно потому марксистская рационалистическая концепция роли личности в истории заключает в себе идею ее безальтернативности, фрактально повторяя линеарную теорию неизбежности прогрессивной смены общественноэкономических формаций. И даже случайный характер выдвижения «великой личности» не связан здесь с отбором и конкуренцией. Речь идет лишь о ее замене на другую личность, как бы стоящую до поры до времени в очереди, «в резерве».
Поэтому необходима дальнейшая теоретическая проработка данной проблемы на новом, более глубоком методологическом и категориальном уровне. Такая установка соответствует современному состоянию научной философии и диалектики, требующему конструктивного решения проблем, перехода от абстрактно-всеобщей диалектики к диалектике конкретно-всеобщей. Последняя вскрывает целый «пласт» новых диалектических закономерностей, к числу которых относится и закономерность отбора, отражающая объективно действующий всеобщий механизм развития [1, с. 7–8]. Фактически принцип отбора на протяжении ХХ – начала ХХI в. приобрел значение общесистемного, общенаучного принципа, который применяется «от астрономии до психологии» [3, с. 296]. Думается, что то же относится к синергетике как неклассической науке, близкой к марксистской диалектике. Как общая теория самоорганизации синергетика — это пограничная область между философией и конкретной наукой, мост, связывающий философию с наукой. Не вдаваясь в дискуссию о соотношении синергетики и диалектики, следует признать, что и та и другая предлагают целый ряд инновационных идей, в частности, новые подходы к решению проблемы роли личности в истории государства и общества. Будучи фундаментальной феноменологией и эс-сенциологией самоорганизации, синергетика разработала свой мощный понятийный аппарат, включающий такие важнейшие категории, как порядок и хаос, тезаурус, выбор, отбор и суперотбор, детектор и селектор, бифуркация и аттрактор.
Согласно синергетике в процессах самоорганизации любых структур обнаруживаются стадии хаоса и порядка. Причем переход может быть от одних форм хаоса к другим формам хаоса, а не только к формам порядка. Это переходы от порядка к хаосу и от хаоса к порядку. Так и человеческая история является чередованием хаоса и порядка. Образ порядка — это отряд солдат, марширующих на военном параде. Это множество элементов, между которыми существуют устойчивые, повторяющиеся отношения как в пространстве, так и во времени. Образ же хаоса — это толпа, охваченная паникой. Здесь нет устойчивых повторяющихся отношений ни в пространстве, ни во времени.
Порядок и хаос вездесущи, они есть в экономической, политической и социокультурной сфе- рах. Они есть и в биологической, и в исторической, и в космической реальности, и т.д. Порядок и хаос — это состояния объективной реальности, они носят предельно общий характер и эквивалентны философским категориям. Можно говорить об онтологическом аспекте понятий порядка и хаоса (неживая, живая природа и общество) и о гносеологическом аспекте самоорганизации как чередовании наших мыслей от порядка к хаосу. Аксиологический уровень — это уровень желаний, ценностей и идеалов, где может существовать идеологический порядок и идеологический хаос. И культура также подвержена самоорганизации: культурный порядок и культурный хаос. Невозможно поэтому согласиться с тем, что синергетика в вопросе о роли личности в истории в методологическом плане носит переходный от имперсонализма к персонализму характер. Ибо она признает решающую роль личности на отдельных отрезках истории — в точках бифуркации, но отрицает ее в иные периоды [2, с. 39]. Роль личности может действительно усиливаться, а может и уменьшаться в определенные исторические периоды, совершая переходы как к усилению, так и к ослаблению, и обратно. Поэтому как и в отношении марксистской концепции в рамках синергетического подхода уже невозможно говорить только о таком переходе. Подобно переходу от хаоса к порядку и от порядка к хаосу возможен качественный переход от персонализма к импер-сонализму. А сама идея взаимосвязи противоположностей и перехода их друг в друга полностью соответствуют как диалектической, так и синергетической парадигме научной философии. Равным образом синергетика рассматривает развитие не только как качественное усложнение структур по формуле «от более простого к более сложному», в ней учитываются и процессы хаотизации, переходы от сложного к простому. Такого рода переходы от порядка к хаосу и от хаоса к порядку хорошо известны в истории человечества.
В конце ХХ в. некоторые мыслители стали отрицать глобальный прогресс [9]. Но что понимать под прогрессом? Если линейный, лапласовский прогресс, то его действительно нет. Но на смену этому линеарному прогрессу приходят нелинейный прогресс и нелинейный детерминизм. Этот прогресс включает в себя «ветвистость», «волнистость» процессов: процессы иерархизации достигают максимума, а затем начинается распад, который, конечно, имеет также свои пределы. Есть и предел упрощения (распада) и предел усложнения (синтез). Так создаются и рушат- ся империи. Но из хаоса вновь рождаются новый порядок, новая иерархия. Если тоталитаризм — это культ порядка, а анархизм — культ свободы, то либерализм есть синтез порядка и свободы. Поэтому в каждом случае процессы выбора и отбора «великой личности» должны иметь специфические особенности.
Таким образом, происходят процессы новообразования, с одной стороны, и процессы сохранения старого — с другой. Существует «винтовое или спиральное время» как единство обратимости и необратимости (примеры: возрождение объединенной Германии после разгрома Германии фашистской; возрождение политической иерархии в современной России после развала Советского Союза). Таковы универсальные эволюционные идеи синергетики. Но именно они должны лежать в основе анализа проблемы роли личности, взятой уже на уровне особенного.
В критических ситуациях общество нуждается в особых руководителях. На протяжении уже нескольких десятилетий западные страны не выдвигают таких «сильных» лидеров, как Рузвельт, Черчилль или де Голль, способных выдвигать и реализовывать новые, стратегические идеи. Старые же методы (и старые лидеры) выходу из кризиса не помогают, а скорее усугубляют кризис. Система «скатывается» к так называемым «странным» аттракторам. Другими словами, к такой ситуации, где исчерпывается все «известное» и наступает «неизвестное». Наступает эпоха бифуркаций, как бы развилка нескольких качеств на несколько других качеств, одного сценария на несколько других сценариев. Многозначность сценариев находится в одной точке, и проблема стоит как проблема выбора одного из сценариев. Если бы не было бифуркации, то свобода личности в принципе не могла бы существовать.
В эпоху бифуркаций велика роль случайностей. Она резко отличается от эпохи стабильности, характеризующейся наличием более жестких детерминаций и уменьшением роли личности в истории. Напротив, эпоха бифуркаций требует усиления роли личности в истории. Это также свидетельствует о том, что свобода может быть решающим фактором эволюции общества лишь в определенные (революционные) периоды истории. В эпоху бифуркаций свобода наблюдаема, социально значима, существенна и персонифицирована лидерами нового, идущего на смену старому. Здесь свобода существенна, как и случайность в самоорганизующейся системе, и сменяется эпохой «подавления свободы», когда роль ин- дивидуальных инициатив наименьшая, почти никак не влияющая на текущую общественную жизнь, «маятник истории» качается то в сторону хаоса, то в сторону порядка, выдвигая соответствующие этим периодам требования к историческим личностям.
Одни претенденты на роль лидера (не обладающие нужными качествами) выбраковываются, другие — остаются, сохраняются, получают возможность претворять свои идеи в жизнь. Происходит сложный процесс отбора личности, которая затем начинает играть выдающуюся роль в истории. Только пересечение в данном месте и периоде определенных персональных качеств отдельного человека и сопутствующих им внешних условий позволяет сыграть роль в истории именно определенной «великой» личности.
Подобные мысли в завуалированной форме уже были у различных мыслителей. Одни полагали, что выбрать адекватного решаемым страной задачам правителя можно путем его активного обучения до или после вступления в должность. Другие (главным образом в Средние века) считали, что Бог продляет жизнь послушным его воле властителям и укорачивает другим, «плохим». Тем самым субъектами отбора правителя оказывались либо отдельные мыслители-наставники, либо сверхъестественные силы.
Однако обе позиции неверны. Отбор личностей происходит в рамках исторического процесса. В нем всегда имеет место единство материального и идеального, здесь нельзя ставить вопрос о том, что первично, а что вторично. Такое единство может быть построено на основе примата материального (т.е. материальных ценностей), а может — на основе примата идеального (т.е. идеалов) или же на основе того и другого. В этой ситуации именно отбор, подобно режиссеру, придирчиво производит «кастинг» актеров, пробуя их на разных ролях, дает время созреть, «прощает» совершенные ошибки и не выпускает со сцены, пока спектакль не будет доигран до конца. Применение понятия отбора необходимо для осуществления синтеза внутренних и внешних факторов, обусловливающих деятельность исторической личности, разрешение метафизической антиномии персоналистской и имперсоналистской парадигм.
Общеизвестно, что Дарвин в своем фундаментальном научном труде «Происхождение видов путем естественного отбора» впервые охарактеризовал отбор как творческий, движущий фактор эволюционного биологического процесса.
Вместе с тем сам ученый понимал, что значение селективного принципа — принципа отбора простирается далеко за рамки собственно биологического исследования и имеет фундаментальное значение и для антропогенеза, и для истории общества. Понятие отбора становится одной из важных категорий синергетики. Как и в продолжающемся синтезе материализма и диалектики, синергетика осуществляет переход от понятия отбора «вообще» к его проработке применительно к истории и социальной практике [8]. Так, в биологическом мире природа «тестирует» различные живые организмы на предмет их выживания в среде обитания. В обществе свобода наиболее отчетливо проявляется в зоне социальных бифуркаций, в условиях количественных переходов за границы меры и возникновения новых качеств внутри социума. Бифуркационный взрыв проявляется как качественный скачок. Свобода предполагает выбор в точке бифуркации одного из множества возможных путей развития как индивида, так и общества. Человек свободно выбирает ту или иную возможность — и этот выбор становится поводом (последним в ряду условий), который заводит механизм социального отбора. Последний является движущей силой социального развития, в частности отбора и устранения «великой личности». Поэтому необходимо обратиться к основным факторам отбора: тезаурус, детектор и селектор.
Социальный отбор предполагает, что есть то, из чего выбирают; есть то, кто выбирает; есть то, чем руководствуются при выборе. Первое — это тезаурус (сокровищница, набор возможностей, вариантов). Второе — это детектор (кто выбирает, кто ищет нужный выбор). Третье — это селектор (на основе чего выбирают, принцип, которым будут руководствоваться при выборе).
Синергетическая парадигма интерпретирует выбор как флуктуацию, позволяющую случайности формировать новую структуру соотношения возможностей (вероятностей), новый тезаурус и новый детектор. Он выбирает из тезауруса определенную структуру, превращая ее из возможности в действительность. В роли детектора выступает внутреннее взаимодействие элементов социальной системы. Такое взаимодействие противоречиво: это не только конкуренция противодействующих друг другу элементов, но и кооперация элементов, содействующих друг другу в этой «борьбе». Поведение этого «единства» известно в истории как «изменение соотношения сил» в той или иной социальной ситуации [7, с. 24–25]. Вы- бор перетекает в отбор или становится элементом отбора, утрачивая свой вес в событии.
В процесс социального отбора вмешивается третий фактор, названный селектором. Он обеспечивает выбор из множества возможностей чего-то одного, чем мы руководствуемся, каким идеалом, ценностью, чтобы знать, что будет выбрано. Так, электорат может выбрать лидера страны, исходя из идеала «сильной руки», а может и исходя из идеала «либерала».
Только взаимодействие всех трех факторов делает понятной творческую силу социального отбора и способность творить «чудеса», которые проявляются в диспропорциональности следствия и причины. Речь идет о нелинейности второго рода в отличие от «линейных» процессов, для которых характерна пропорциональность следствия причине. Тогда малые воздействия могут приводить к очень большим последствиям, а большие — к совершенно незначительным последствиям [7, с. 26]. Новый тезаурус и новый детектор приводят структуру к определенному аттрактору, предзаданному на данной социальной среде. Аттрактором называется устойчивое состояние системы, которое как бы «притягивает» (attrahere — лат. притягивать) к себе множество «траекторий» системы, определяемых различными начальными условиями. Если система попадает в сферу аттрактора, то она неизбежно эволюционирует к этому устойчивому состоянию.
«Балом правит» отбор, выбор же играет роль повода — последнего в ряду необходимых условий, запускающего механизм социального отбора. На этом фоне возникает проблема роли личности в истории (случайный фактор, флуктуация микроуровня), но особенно — проблема социального аттрактора. Можно сказать, что аттрактор — это реальная структура, принадлежащая самой эволюционирующей системе и воспроизводимая ею всякий раз в той или иной форме. В системе воспроизводства социального бытия в рамках исторической динамики случайным образом (флуктуации, выбор/отбор) возникает «выход на аттрактор», начинается воспроизводство какого-либо продукта, удовлетворяющего определенную потребность. При этом случается и несовпадение: продукт производится, а нужная потребность не удовлетворяется. Таким «продуктом» может быть информация, организация, поведенческая норма, отношение, класс вещей или определенный тип людей. Если вести речь в терминах А. Тойнби, то аттрактор — это «ответ» системы на «вызов» среды (времени). «Ответ» — это процесс воспроиз- водства определенного продукта, необходимого для потребностей социума в данный момент времени. Таким «ответом» может стать «великая личность», необходимая социуму в данной исторической ситуации, либо для его «расцвета», а может быть, и «на погибель».
«Попасть в конус действия аттрактора» означает для общества то, что оно вынуждено до известных пределов удовлетворять собственные потребности. Если нужный продукт (в данном случае — лидер, «великая» личность) не производится и система испытывает кризис или даже гибнет (как государство или этнос), то такая ситуация характеризуется определенным типом странных аттракторов. Другими словами, конечный продукт (лидер по принципу «свято место пусто не бывает») не удовлетворяет потребности общества, не вписывается в систему его воспроизводства. Система испытывает «застой», кризис, быть может, даже распад, потерю суверенитета и др. Если же потребность в лидере удовлетворяется, а система продолжает воспроизводиться, то такой тип ситуации называется простым аттрактором. При этом необходимо помнить, что понятие социального аттрактора включает в себя способ функционирования общественного производства, каковых (способов) ограниченное число. Система не может производить то, что выходит за рамки ее возможностей. Так, Гитлер, воюя на два фронта, исчерпал возможности тогдашней Германии, приведя ее в конечном счете к капитуляции. Отсюда следует, что количество возможных аттракторов, в которые может угодить (попасть, скатиться) система, ограничено. Аттрактор — не причина тех или иных изменений в социуме, он — структура функционирования общества в определенных условиях. Он предстает как необходимость, с которой не может не считаться ни один из «великих» людей эпохи. Данная необходимость объективно противостоит замыслам и воле правителя, ограничивая его свободу действия. А это значит, что на теоретическом уровне необходим учет объективной диалектики персоналистской и имперсоналистской парадигм, учет «органических» и «неорганических», объективных и субъективных обстоятельств исполнения «великой» личностью своей роли в истории. Синтез позиций возможет лишь на основе диалектики и синергетики.
Поскольку аттрактор предстает как необходимость, то заставить систему в этих условиях (со стороны отдельного субъекта) отказаться от формы функционирования, от структуры воспроиз- водства весьма затруднительно. Поэтому, вопреки волюнтаристским подходам, выход на тот или иной социальный аттрактор формирует не выбор исторической личности, а сложная система социального отбора (детектор). Даже если выбор производит монарх, то не всегда абсолютный властитель может получить выход на воспроизводство необходимого для общества продукта. Нередко дело заканчивается бесполезной тратой людских и материальных ресурсов, особенно когда государство превращается в «сверхмашину».
Ряд современных публикаций свидетельствуют о возобновлении после продолжительного забвения интереса российских философов к проблеме роли личности в истории [2, 5, 6], что должно только приветствоваться. Вместе с тем в отмеченных и других работах фактически не используются богатые синергетические проработки данной проблемы. Более того, сформулированные выводы исследований не выходят даже на уровень диалектического решения антиномии персонализма и имперсонализма. Так, синтез данных противоположностей видится на пути вычленения всех позитивных элементов, имеющихся как в персоналистской, так и в имперсоналистской парадигмах с тем, чтобы прийти к адекватным оценкам роли, которую играет какая-либо личность в историческом процессе [2, с. 117]. На деле никакого синтеза не получится, поскольку он предполагает принципиально новые «качественные» подходы к решению проблем. И даже там, где инструментально используется понятие отбора для синтеза противоположных концепций, сам отбор интерпретируется поверхностно, лишь на эмпирическом и описательно историческом (иллюстративном) уровне исследования. Здесь нет места внутреннему взаимодействию элементов социальной системы, а сам «исторический субъект» выступает поэтому изолированно, скорее как некий «Робинзон», волею случая ставший «великой личностью». Сама же социальная среда суживается до нескольких других, таких же отдельных, единичных индивидов. И лишь только между ними и происходит «борьба».
И все «случаи», работающие на выдвижение «великой личности», носят внешний, не связанный с идеалами и ценностями характер. Как будто в обществе, в том или ином его классе или социальном слое вообще отсутствуют идеологические, политические, экономические интересы, ценности и идеалы. Но без них нет и самого выбора. При этом чрезмерно большое внимание уделяется биологическим «случайностям» — об- стоятельствам и фактам рождения будущей исторической личности, ее выживанию при тех или иных трагических обстоятельствах или выживанию его родителей, отца, матери [2, с. 106–111]. Однако, помимо мистического воображения, невозможно перейти от «случайного» сохранения жизни младенца Наполеона (который из чрева матери упал на пол) к его взлету к вершинам власти во Франции. Оставшись живым при рождении, Наполеон обрел лишь такую же абстрактную возможность стать «великой личностью», как и те миллионы людей, которые остались жить, но так и не стали выдающимися руководителями. Одно дело отбор биологический, но совсем другое — отбор социальный. В первом случае все подчиняется естественным процессам, а во втором — определятся принципиально иными, общественными процессами, в рамках которых только и происходит становление человека как личности. Социальный отбор переводит ситуацию из сферы бесконечной абстрактной возможности появления «великой личности» из миллионов ему подобных к возможности конкретно-исторической. Здесь начинаются (и заканчиваются) свободы человека, лежащие в основе осознанных процессов выбора и отбора «великой личности».
В заключение можно констатировать как принципиальную близость марксистской и синергетической парадигм в решении проблемы роли личности в истории, так и определенные различия между ними.
Такая близость определяется, во-первых, их последовательно научным характером, что позволяет успешно преодолевать различного рода идеалистические, мистические, волюнтаристские и субъективистские подходы к данной тематике. При этом марксизм и синергетика избегают и со-циал-дарвинизма как в целом, так и в интерпретации «механизмов» отбора применительно к человеческому сообществу.
Во-вторых, близость данных концепций основана на глубокой диалектической идее принципиального единства личности, общества и человеческой истории, единства свободы и необходимости, объективных (независимых от воли личности) обстоятельств, а также ее субъективных качеств. Место, роль и оценка «великой личности» зависят в конечном счете от того, совпадают или не совпадают идеалы этой личности с идеалами наиболее креативных классов и социальных групп социума. Наконец, их сближает представление о движении человечества к некоему притягательному будущему, будь то коммунизм или аттрактор, в приближении к которым все более будут совпадать идеалы личности с идеалами общечеловеческими.
Вместе с тем необходимо отметить, что различие между марксизмом (диалектикой) и синергетикой связано с используемым в них тезаурусом понятийно-категориального аппарата. Упрекать же марксизм в том, что он, в отличие от синергетики, не признавал творческой функции хаоса и случайности, было бы неисторичным. А потому соотношение диалектики и синергетики следует оценивать скорее как стадии развития универсальной теории эволюции, в которой есть место для их дальнейшего развития и взаимообо-гащения.
Список литературы К вопросу о роли личности в истории: диалектический и синергетический подходы
- Внутских А.Ю. Отбор в природе и отбор в обществе: опыт конкретно-всеобщей теории. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2006. 335 с
- Душкова З.В., Нехамкин В.А. Роль личности в истории: современный взгляд: монография. М.: Изд. дом Душковой, 2011. 160 с
- Малиновский А.А. Системная логика дарвинизма//Тектология. Теория систем. Теоретическая биология. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 426 с
- Маркс К. Капитал. Т. 1//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. М.: Госполитиздат,1960. 907 с
- Полькина О.О. К вопросу о роли личности в истории//Ломоносовские чтения, 2004. М.: ТЕИС, 2005. С. 90-93
- Померанц Г.С. История в сослагательном наклонении//Вопросы философии. 1990. № 11. С. 55-66
- Синергетическая теория ценностей: коллективная монография/под ред. В.П. Бранского, С.Д. Пожарского. СПб.: ЛЕМА, 2012. 168 с
- Синергетическая философия истории/под ред. В.П. Бранского, С.Д. Пожарского. Рязань: Копи-Принт, 2009. 314 с
- Шанин Теодор. Идея прогресса//Вопросы философии. 1998. № 8. С. 33-37