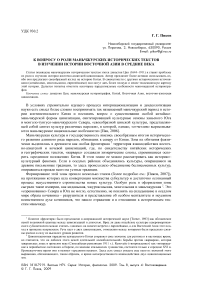К вопросу о роли маньчжурских исторических текстов в изучении истории Восточной Азии в Средние века
Автор: Пиков Геннадий Геннадьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена маньчжурским историческим текстам эпохи династии Цин (1644-1911) и ставит проблему их роли в изучении истории восточно-азиатской цивилизации. Автор предлагает более активно использовать их, ибо они предлагают своеобразный взгляд на историю Китая. В совокупности с другими историческими источниками (китайскими, монгольскими, европейскими) они могут дать более полную и менее тенденциозную картину этой истории. Делается попытка отметить некоторые парадигмальные особенности маньчжурской историографии.
Династия цин, маньчжурская историография, китай, восточная азия, восточно-азиатская цивилизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14737120
IDR: 14737120 | УДК: 930.2
Текст научной статьи К вопросу о роли маньчжурских исторических текстов в изучении истории Восточной Азии в Средние века
В условиях стремительно идущего процесса интернационализации и деидеологизации науки есть смысл более сложно воспринимать так называемый маньчжурский период в истории континентального Китая и поставить вопрос о существовании особой китайско-маньчжурской формы цивилизации, синтезировавшей культурные основы ханьского Юга и монголо-тунгусо-маньчжурского Севера, «своеобразной цинской культуры, представляющей собой синтез культур различных народов», в которой, однако, «отчетливо вырисовываются маньчжурские национальные особенности» [Пан, 2006].
Маньчжурская культура и государственность явились своеобразным итогом исторического развития длинного ряда народов, обитавших к северу от Китая. Зона их обитания фактически выделилась в древности как особая фронтирная 1 территория взаимодействия восточно-азиатской и кочевой цивилизаций, где, по свидетельству китайских исторических и географических текстов, «варвары» создавали химерические союзы, стремившиеся оспорить «срединное положение» Китая. В этом плане ее можно рассматривать как историко– культурный феномен. Если в оседлых районах объединялись культуры, опиравшиеся на древние письменные традиции, то здесь происходило объединение бесписьменных культур, опиравшихся прежде всего на устные традиции.
Формирование этой зоны прошло несколько этапов (более подробно см.: [Пиков, 2007]), на протяжении которых шла конвергенция множества субкультур и достаточно осознанный процесс искусственного строительства новых культур. Особую роль в оформлении зоны сыграли такие империи, как киданьская, чжурчжэньская, монгольская и маньчжурская 2. Это «соревнование» Севера и Юга не могло, естественно, не повлиять на складывание в оседлом мире образа кочевника – разрушителя и представление об особом менталитете и неуемном воинственном духе кочевников, что нашло отражение и в отношении к историческим текстам маньчжур.
В востоковедной науке несколько скептическое отношение к ним проявилось достаточно рано. Не удивительно, что исследователей сама маньчжурская история и история их непосредственных предшественников чжурчжэней не могла не привлечь уже в XVIII в. [Тайцин Гурунь…, 1781–1783; Обстоятельное описание…, 1784]. Однако вскоре выбор был сделан все же в пользу китайских текстов, что связано с рядом факторов, начавших проявляться уже в первой половине XIX в. Это видно из полемики двух востоковедов того времени – Н. Я. Бичурина и архимандрита Петра (1765–1845) 3.
Проблема не только в том, что Каменский «возвратился… из Китая тогда, когда Бичурин уже триумфально вошел не только в русскую науку, но и в мировую синологию. Бичурин в известной мере заслонил Каменского» [История отечественного…, 1990. С. 270]. Речь идет фактически о двух подходах к истории монголов – китайском и маньчжурском. Н. Я. Бичурин считал, что основная литература написана на китайском языке, а издания на маньчжурском – лишь переводные. На протяжении XIX в. к маньчжурскому языку и литературе на нем постепенно сложилось достаточно негативное отношение. В. П. Васильев в «Записке о восточных книгах в С.-Петербургском университете» писал: «На Западе и у нас видят в маньчжурском языке по его легкости пособие для первоначального изучения китайского языка» [Скачков, 1977. С. 321]. Сказались и негативное отношение китайцев к маньчжурам и их культуре, и близость европейского подхода к истории кочевников к китайскому. Уже ко времени воцарения в Китае маньчжурской династии Цин (1644–1911 гг.) китайская историческая литература собрала море исторических и географических данных, которые вплоть до начала XIX в. оставались вне поля зрения китаистов. Эти тексты с каждым новым поколением обрастали все большим количеством комментариев, без которых трудно понять не только ушедшие исторические реалии, но и многие культурные явления того времени. Изучение этих «банков информации» потребовало от европейцев массы интеллектуальных сил и времени, было задачей непростой и фактически ориентированной на весьма длительную перспективу. Оно шло, надо признать, достаточно успешно, но обратной стороной этого процесса, естественно, стала недооценка маньчжурских исторических сочинений 4. Компиляции из донесений миссионеров и маньчжурских пересказов собственно китайских книг не могли удовлетворять требованиям набирающей опыт и силы европейской исторической мысли. К тому же кочевые и полукочевые народы как «недоразвитые», которые ничего не могут дать «человечеству», были объявлены «тупиковым» вариантом развития. Явно сказался и веками выработанный страх оседлой цивилизации перед кочевниками, поэтому европейцев очень долго интересовали исключительно военные аспекты истории кочевых народов.
К предпочтению архимандритом Петром маньчжурских текстов, правда, тоже надо относиться осторожно. В нем явно отразилась некоторая идеализация империи Цин. Каменский считал, что маньчжурская династия «мудрейшая и политичнейшая, не взирая на варварское и степное ее происхождение», причиной чему было то, что «Канси воспитан иезуитами», которые «вдохнули» в него «мудрые управы» 5. Вряд ли можно назвать Каменского и высшей инстанцией в вопросах китайской истории. Хотя Бичурин владел практически лишь китайским языком, но в силу богатства информации и наличия изощренных методов ее сбора и интерпретации в китайских исторических сочинениях он великолепно знал китайскую историю, как древнюю, так и более или менее современную ему. Каменский же знал китайский язык плохо и к китайской культуре относился во многом с европоцентристских и ортодоксальных христианских позиций. Его попытки сравнить христианские и конфуцианские идеи (переводы на латынь изречений Конфуция) нужно понимать как стремление в духе своего времени найти возможности для замены конфуцианских ценностей на христианские.
В итоге есть смысл попытаться увидеть в противостоянии двух великих китаистов – Иакинфа и Петра – не только личную трагедию, но и то, что из-за этого были упущены определенные возможности в развитии востоковедения. То, что маньчжурское видение восточно-азиатской истории не стало предметом анализа исследователей, явилось одним из факторов, обусловивших то, что история восточно-азиатской цивилизации, где кочевники играли существенную роль, так или иначе до сих пор рассматривается в рамках историософии оседлых цивилизаций.
К тому же история и культура Маньчжурии не случайно стали объектом изучения сразу двух научных дисциплин – синологии и маньчжуроведения. В некотором смысле место истории и культуры маньчжуров в истории дальневосточного метарегиона не было определено достаточно четко. В научном востоковедении и дипломатической практике вплоть до начала XX в. маньчжуры считались китайцами. Действительно, конвергенция китайской и маньчжурской культур зашла далеко, что и уводило маньчжурскую культуру в тень китайской. После Синхайской революции началось стремительное отторжение культуры «завоевателей» и история маньчжуров все чаще стала изучаться на основе китайских сочинений, в которых антиманьчжурская составляющая хотя бы как тенденция всегда присутствовала. Нужно учитывать и то, что молодой республиканский Китай негативно относился к самой идее монархии.
Определенное изменение отношения к маньчжурской истории, культуре и историографии наметилось в 60-е гг. прошлого столетия. Отчасти это было связано с наметившимся противостоянием СССР и КНР. Активное изучение этого региона шло в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке 6.
Именно в Новосибирске и родилась идея издания ряда маньчжурских исторических текстов – вариантов китайских династийных историй «Цзинь ши», «Ляо ши» и «Юаньши» («Дайляо гуруни судури», «Айсинь гуруни судури» и «Дайюань гуруни судури») и I тома собрания документов по истории и культуре маньчжуров «Мань-вэнь лао-дан» («Старый архив на маньчжурском языке») [Тюрюмина, 1969; Малявкин, 1977; История Золотой…, 1998; Ларичев и др., 2006; Пиков, 2007; История Железной…, 2007]. В итоге можно утверждать, что в настоящее время фактически впервые за два столетия появляется возможность взглянуть на историю XIII–XVIII вв. комплексно, с учетом всех сложившихся историографических традиций – китайской, монгольской, маньчжурской, мусульманской, латинской и русской. Это особенно важно, если учесть все еще достаточно слабую разработанность средневековой истории.
Культура Цинской империи относится к уникальным историческим феноменам – она уже является частью истории, и в то же время живы еще ее носители. Все формы дальневосточной культуры, древние или средневековые, давно уже изучаются лишь специалистами, историками или филологами. Эти культуры можно образно назвать безмолвствующими. «Уход» цинской культуры, если так можно выразиться, осуществляется на наших глазах. Еще существует возможность не только читать ее тексты, но и говорить с ее носителями.
Фактически уже на данном этапе есть необходимость вновь привлечь внимание исследователей к феномену маньчжурской исторической литературы, разумеется, не с целью его идеализации, но с четким намерением определить его истинное место в истории восточноазиатской историософии и на первых порах хотя бы в общем виде определить парадигмаль-ные особенности этой литературы.
-
• В маньчжурской историографии история разворачивается в двух основных сферах. Формирование ее как некой программы связано с Небом. Ее происхождение, цели и конкретные задачи человеку неведомы.
-
• Земная сфера представлена этно-культурной историей (конгломерат различных этнических и социальных групп), в центре которой находятся политические проблемы. Особую роль играют правители, именно на этом уровне особенно ярко проявляется сложность взаимодействия воли Неба, с одной стороны, и деятельности императора и интересов людей – с другой. Социальные и этнические катаклизмы как свидетельство отклонения от «воли Неба», т. е. набора прошедших апробацию традиций и рецептов, прямо указывают на существование и особую роль сверхъестественного начала. Идея неизбежности смены правителей и возможность для общества обрести самого достойного способствовали чувству «исторического оптимизма». Такой подход изначально блокировал необходимость каких бы то ни было социальных или политических изменений, социальных и революционных движений.
-
• В маньчжурской историософии налицо безусловное стремление создать максимально широкое историческое полотно, иначе говоря, описать историю как всемирную. В историографическом процессе X–XVII вв. можно увидеть единое для всей евразийской исторической мысли стремление придать истории всемирный характер. В I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. в исторических трудах элементы всемирной истории появлялись за счет включения мифов и легенд о древних временах и представление о всемирности истории складывалось в рамках отдельных регионов, если так можно выразиться, по вертикали (двуступенчатая иудейско-христианская модель «священная история» / «божественная», основу которой составляли мифы, и последующая как профанная или «человеческая», такие конструкции, как «Запад – Восток», «оседлые – номады / кочевники», «земледелие – скотоводство», «империя – варвары» или «Север–Юг»). О складывании представления о «всемирности» истории по горизонтали, т. е. о рассмотрении всей этнокультурной картины ойкумены свидетельствуют религиозные представления о необходимости «нести всей твари на земле истину» (евангелие, джихад).
В этом ряду исторические представления, постепенно складывающиеся в «империях завоевания», в том числе и в империи Цин, занимают особое место. Они свидетельствуют о появлении представлений о возможности конвергенции различных культур не за счет «поднятия» «варваров» до уровня «цивилизации», а путем диалога культур. Разумеется, в соответствии с уровнем развития истории того времени это выглядит как региональная монистическая модель истории, когда конвергенция мыслится лишь между близкими по духу и соседними культурами.
Об этом свидетельствует и фактически развивающееся представление о мультилинейности исторического процесса. Если китайцы в рамках модели «империя – варвары» подразумевали фактически лишь вертикальное развитие народов, до уровня имперской культуры, то у северных народов было предложено еще два варианта возможного будущего развития.
Во-первых, предлагается еще одна схема существующего исторического развития (троичная модель): варвары – Китай – Цин (или Ляо, Цзинь, Юань). Конечно, эта схема свидетельствует об экспансионистских притязаниях кочевых империй, но важно, что предложен иной вариант развития. Прежняя схема (варвары – Китай), таким образом, поставлена под сомнение и, следовательно, неизбежно исследование этой проблемы.
Во-вторых, «варвары» подчеркивали самобытность не только политических образований, созданных другими кочевниками (уйгуры, тангуты, кидани, чжурчжэни, монголы, маньчжуры), но и равноправие их культур, практически не только между собой, но и по отношению к китайской. Кочевые историки обращали внимание на многофакторность сценариев развития, даже строили прогнозы и давали рекомендации, которые предусматривали бы не один, а несколько путей возможного изменения социальных и политических процессов.
-
• Еще одной задачей было маркировать ойкумену как «мир», создать что-то вроде историко-культурного атласа, из которого было бы видно, какие «народы» населяют его, что между ними общего и различного. В условиях усложнения политической, социальной и экономической жизни нужно было утвердить иерархию социальных групп и доказать ее извечность, особенно императорской власти. Задачами «исторических текстов» того времени были также решение на широком историческом материале важнейших мировоззренческих проблем (место и роль в политической и социальной жизни человека, народа, сверхъестественных сил и др.), показ эффективности выработанных морально-политических императивов, иллюстрация с помощью исторического материала базовых идей.
-
• Основной целью маньчжурской историографии являлась трансляция политического, административного и военного опыта от одного поколения государственных деятелей и чиновников к другому. Это говорит о том, что многофакторность исторического процесса сознательно искажается и идет редукция «исторического материала» ради той цели, которую ставит «современность». Выделяется масса «точечных событий» и превращается в цепочку как интервал истории («шаг»). Каждое следующее событие диалектично по отношению к первому, ибо отрицает и развивает его.
-
• Кроме того, изучаются такие сложные конструкции, как «империи», а они постоянно находятся в движении. Это означает, что история любой династии неповторима и это не может скрыть даже такая жесткая конструкция, как «династийная история», и это же определя-
- ет в свою очередь «самобытность» маньчжурской истории, государственности и историографии.
-
• Идеалом восточно-азиатского общества в целом и маньчжурского в частности была прогрессистская модель истории, целью для которой является период природной и социальной гармонии, достичь которого возможно только в рамках определенной культуры [Рыкин, 2004]. Главным социокультурным принципом поэтому становится справедливость, с помощью которой добро награждается, а зло наказуется, обеспечивается справедливость социальная (за счет сохранения исконного порядка) и политическая, доказывается «правота» перед Небом. Именно так происходит объединение пестрой людской массы в «мы» и создается так называемая «коннективная структура» общего знания, опирающегося на подчинение общим правилам и общим ценностям и на сообща обжитое прошлое [Ассман, 2004].
-
• Включение материала по истории Китая и сопредельных территорий говорило о существенном расширении этнополитического и культурного горизонтов. Можно, в соответствии с четырьмя династиями (Ляо, Цзинь, Юань, Цин), выделить четыре этапа увеличения информации, что позволяет говорить о том, что эта информация не обрушилась лавиной на кочевой мир, а усваивалась им постепенно и основательно. Кочевые историографы ввели в обычную практику ссылки на самые различные китайские работы, начиная с классической древности и кончая современностью. Многие персонажи китайской истории становились своеобразными образцами для подражания. В итоге можно говорить, что тем самым маньчжурами активно осваивалась базовая культура всего метарегиона 7.
-
• Этот «подражательный» период позволяет заложить основы новой культурной парадигмы и максимально использовать базовые общецивилизационные представления, но впоследствии новая, более локальная парадигма обязательно вступает в конфликт со своей «матерью». Конфликт между идеологией метарегиона в целом и отдельными культурами (этническими, национальными, социальными) обязателен для цивилизации и способствует развитию отдельных районов.
TO A QUESTION ON A ROLE OF MANCHURIAN HISTORICAL TEXTS IN STUDYING OF HISTORY OF EAST ASIA IN THE MIDDLE AGES