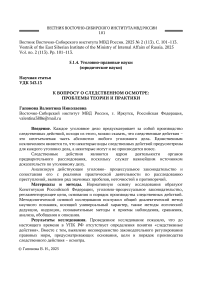К вопросу о следственном осмотре: проблемы теории и практики
Автор: Гапонова В.Н.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Уголовно-правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Каждое уголовное дело предусматривает за собой производство следственных действий, исходя из этого, можно сказать, что следственные действия – это неотъемлемая часть абсолютно любого уголовного дела. Единственным исключением является то, что некоторые виды следственных действий предусмотрены для каждого уголовно дела, а некоторые могут и не производится вовсе. Следственные действия являются ядром деятельности органов предварительного расследования, поскольку служат важнейшим источником доказательств по уголовному делу. Анализируя действующее уголовно- процессуальное законодательство и сопоставляя его с реалиями практической деятельности по расследованию преступлений, выявлен ряд значимых пробелов, неточностей и противоречий. Материалы и методы. Нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство, регламентирующее цели, основания и порядок производства следственных действий. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания. Результаты исследования. Проведенное исследование показало, что до настоящего времени в УПК РФ отсутствует определения понятия «следственные действия». Вместе с тем, выявлено несовершенство законодательного регулирования правовых норм, предусматривающих основания, цели и порядок производства следственного действия – осмотра. Выводы и заключения. 1. Во избежание неоднозначной трактовки УПК РФ должен содержать четкие формулировки, раскрывающие суть понятия «следственные действия», а относительно каждого конкретного следственного действия должны быть определены конкретные основания и четкий порядок производства. 2. Корректировка понятия и порядка проведения осмотра позволит избежать двусмысленное понимание порядка его проведения, а также будет исключена возможность признания протокола такого следственного действия недопустимым доказательством. 3. Предлагается следующая интерпретация определения понятия «осмотра места происшествия»: это неотложное следственное действие, осуществляемое после поступления сообщения о преступлении, заключающееся в обследовании территорий, помещений, в том числе и жилых, иных объектов путём наблюдения и проведения поисковых мероприятий с целью обнаружения и изъятия следов, предметов, документов, иных объектов, лиц, причастных к совершению преступления и в отношении которых совершено преступление и фиксации результатов и обстановки в соответствующем протоколе. 4. Для урегулирования проблемных вопросов, связанных с «подменой» следственных действий в ходе осмотра места происшествия, необходимо внести дополнения в ст. 177 УПК РФ следующего содержания: «При производстве осмотра места происшествия до возбуждения уголовного дела вправе присутствовать заявитель, иные заинтересованные лица и давать пояснения об обстановке, месте нахождения имеющих значение для уголовного дела предметов, документов и иных объектов».
Уголовное судопроизводство, следственные действия, следственный осмотр, осмотр места происшествия, осмотр жилища
Короткий адрес: https://sciup.org/143184495
IDR: 143184495 | УДК: 343.13
Текст научной статьи К вопросу о следственном осмотре: проблемы теории и практики
Рассуждая о проблемных вопросах производства отдельных следственных действий, нельзя не заострить внимание на том, что и само понятие «следственные действия» законодателем не сформулировано.
До настоящего времени УПК Р Ф1 не дает понятия «следственных действий», что побуждает ученых – процессуалистов вырабатывать и предлагать свои формулировки, которые зачастую противоречат друг другу.
В юридической науке существует различные точки зрения относительно понятия «следственные действия».
По мнению А. М. Ларина [1] и И. Ф. Герасимова [2, с. 69], к ним следует относить все процессуальные действия, проводимые следователем в ходе расследования уголовных дел. Такое же мнение разделяет А. П. Кругликов [3, с. 40] и др.
Не вдаваясь в дискуссию по данному вопросу, отметим, что не следует объединять разные по своей правовой природе действия в одно понятие.
С. А. Шейфер рассматривал следственные действия в познавательном и процессуальном аспекте [4, с. 11]. При этом с познавательной точки зрения следственное действие является способом собирания доказательств. С процессуальной же стороны проведение следственного действия чётко регламентируется УПК РФ, нормы которого образуют специфический институт уголовно-процессуального права, реализуемый в правоотношениях между его участниками. Заслуживающей внимания представляется точка зрения Р. А. Хабибовой, предлагающей внести дополнительный пункт в ст. 5 УПК РФ с определением понятия следственных действий как прямо предусмотренных и регламентированных уголовно-процессуальным законом процессуальных действий познавательного характера по собиранию и проверке доказательств, имеющих фактические и юридические (процессуальные) основания, проводимых уполномоченными на то должностными лицами с целью установления и доказывания имеющих значение для уголовного дела фактических обстоятельств, характеризующихся детальной процедурой производства и оформления, обеспеченные уголовно-процессуальным принуждением и предусматривающих обязательное удостоверение результатов производства со строгим соблюдением процессуальной формы [5, с. 110].
Во избежание неоднозначной трактовки, УПК РФ должен содержать четкие формулировки, раскрывающие суть разъясняемого понятия, а относительно каждого конкретного следственного действия должны быть определены конкретные основания и четкий порядок производства.
В современных условиях данные положения приобретают особое значение, поскольку напрямую касаются строго и неукоснительного соблюдения порядка производства по уголовным делам [6, с. 95].
В настоящем исследовании хотелось бы подробнее остановиться на таком следственном действии, как осмотр, поскольку он является одним из самых распространённых, без которого не обходится ни одно уголовное дело.
Так, один из видов осмотра – осмотр места происшествия как следственное действие является важным средством получения информации о расследуемом преступлении.
Вместе с тем, процессуальный порядок производства осмотра законодателем не в полной мере урегулирован.
Теория уголовного процесса определяет осмотр места происшествия как следственное действие, заключающееся в обследовании (визуальном наблюдении) участка местности, помещения, иных территорий с целью обнаружения, изъятия и фиксации следов и объектов, относящихся к событию преступления, изучения обстановки и получения фактических данных, имеющих значение для уголовного дела. В связи с недостаточно точными определениями сущности и порядка его производства имеются случаи, когда следователи «подменяют» одно следственное действие другим. Так, при проверке сообщения о преступлении не предусмотрена возможность производства проверки показаний на месте, однако при этом проводят осмотр места происшествия с участием заявителя, который указывая на отдельные участки территории и помещений, даёт определённые пояснения, а фактически – показания на месте. Кроме того, при производстве осмотра нередко возникают такие ситуации, когда открываются тумбочки, ящики что делать категорически нельзя, поскольку это другое следственное действие – обыск.
В связи с тем, что дача показаний при проведении данного следственного действия не предусмотрена, как не предусмотрено и проведение поисковых мероприятий, фактически, такие следственные действия как проверка показаний на месте и обыск подменяются осмотром месте происшествия.
Возникает вопрос: могут ли результаты производства такого следственного действия являться допустимым доказательством? Представляется что, такое доказательство нельзя использовать в качестве такого, поскольку при его получении допущены нарушения уголовно-процессуального доказательства.
Если рассматривать ситуацию со стороны действующих сотрудников органов внутренних дел, деятельность которых направлена на выявление признаков преступления, раскрытие и расследование преступлений, то проведение осмотра места происшествия без поисковых мероприятий и возможности преодоления различных преград в виде нарушения целостности отдельных структур является не эффективным и малоинформативным. Например, невозможно обнаружить труп, который закопан в земле или замурован в стену, без преодоления и разрушения соответствующих препятствий и поисковых мероприятий [7, с. 216].
Кроме того, невозможно при наличии информации о месте нахождения «закладок» с наркотическим средством обнаружить и изъять их до возбуждения уголовного дела, не проводя поисковых действий и не повреждая структуры определённых объектов (когда закладки помещают под покрытие пола или стен заброшенных зданий, также прячут партии наркотических средств большого объёма, помещая их в тайники). А без наличия самих искомых объектов невозможно установить признаки преступления, то есть при проведении осмотра места происшествия в данных случаях такой протокол может быть признан недопустимым доказательством, либо при соблюдении всех правовых норм, данные преступления не будут выявлены либо необходимые доказательства будут утрачены.
Таким образом, возникает необходимость уточнения самого понятия и порядка проведения осмотра, в том числе и осмотра места происшествия. Корректировка такого понятия позволит избежать двусмысленное понимание порядка проведения осмотра места происшествия, а также будет исключена возможность признания протокола указанного следственного действия недопустимым доказательством.
Предлагается следующая интерпретация определения осмотра места происшествия: это неотложное следственное действие, осуществляемое после поступления сообщения о преступлении, заключающееся в обследовании территорий, помещений, в том числе и жилых, иных объектов путём наблюдения и проведения поисковых мероприятий с целью обнаружения и изъятия следов, предметов, документов, иных объектов, лиц, причастных к совершению преступления и в отношении которых совершено преступление и фиксации результатов и обстановки в соответствующем протоколе.
Кроме того, ст. 176 УПК РФ называет целями осмотра обнаружение следов преступления и выяснение других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Изъятие как цель осмотра не предусмотрена. В ч. 3 ст. 177 УПК РФ имеется лишь указание на возможность изъятия предметов, если для их осмотра требуется продолжительное время. Из смысла рассматриваемой статьи следует, что изъятие объектов в ходе осмотра не предусматривается, а является лишь возможностью в исключительном случае. Каким образом тогда следует изымать следы, предметы и иные объекты до возбуждения уголовного дела?
При совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или оружия, а также иных предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота, изъятие перечисленного является обязательным, даже при наличии одного объекта, осмотр которого не требует продолжительного времени. Также на месте происшествия могут находиться предметы и следы, имеющие отношение к лицу, совершившему преступление, которые помогут идентифицировать преступника и доказать его причастность к совершенному преступлению, однако по прямому толкованию ст. 177 УПК РФ они также не подлежат изъятию. Ни одно следственное действие, регламентированное действующим УПК РФ, не предполагает возможности изъятия каких-либо объектов до возбуждения уголовного дела, что в большой степени затрудняет формирование доказательственной базы не только на рассматриваемой стадии, но и не позволяет в дальнейшем использовать такие объекты в качестве доказательств.
Для урегулирования вышеуказанных проблемных вопросов, связанных с «подменой» следственных действий в ходе осмотра места происшествия, следовало бы внести дополнения в ст. 177 УПК РФ следующего содержания: «При производстве осмотра места происшествия до возбуждения уголовного дела вправе присутствовать заявитель, иные заинтересованные лица и давать пояснения об обстановке, месте нахождения имеющих значение для уголовного дела предметов, документов и иных объектов».
Несмотря на то, что ст. 176 УПК РФ именуется «Основание производства осмотра», диспозиция статьи не указывает на конкретные основания для его проведения. На наш взгляд, необходимо указать в качестве оснований для производства осмотра: поступившее сообщение о преступлении или наличие возбужденного уголовного дела для установления признаков и обстоятельств преступления.
Также, при осмотре места происшествия имеют место случаи отказа следователю со стороны должностных и иных лиц в предоставлении видеозаписи, иной информации, имеющей значения для установления обстоятельств и лиц, совершивших преступление. Часто такой отказ связан просто с нежеланием содействовать правоохранительным органам, а иногда с требованием письменного запроса и получением разрешения от руководителя или владельца предприятия, учреждения, государственных и иных организаций и коммерческих структур, в которых истребуются данные сведения.
Для преодоления данной проблемы предлагаем внести дополнения в ст. 177 УПК РФ следующего содержания: «Должностные и иные лица предприятий, учреждений, государственных и иных организаций и коммерческих структур обязаны предоставлять по устному требованию следователя, дознавателя при проведении осмотра места происшествия, возможность просмотра и изъятия видеозаписи, относящейся к рассматриваемому событию преступления или способствующей установлению обстоятельств преступления и лиц его совершивших».
Такие дополнения позволили бы в определенной степени повлиять на снижение уровня преступности и возможность скорейшего раскрытия преступлений.
В настоящее время следственная практика сложилась таким образом, что при необходимости проведения до возбуждения уголовного дела осмотра жилого помещения, в котором совершено преступление или имеются какие-либо следы и подлежащие изъятию объекты, истребуется разрешение собственника или лиц, в нем проживающих, которое оформляется соответствующей записью в протоколе осмотра места происшествия. В данном случае, сотрудники, производящие осмотр, должны руководствоваться положениями ч. 1 ст. 144 УПК РФ, допускающими проведение осмотра места происшествия до возбуждения уголовного дела. Другой альтернативы осмотра жилого помещения до возбуждения уголовного дела законодатель не предусматривает.
Сложившаяся вышеописанная следственная практика представляется не только не логичной, но и категорически не верной, так как к одному виду осмотра (места происшествия) применяются требования проведения другого вида осмотра (жилища), который возможен лишь после возбуждения уголовного дела.
Рассматривая данную позицию следственных органов, в случае не получения согласия на осмотр жилого помещения, например, если в этом помещении произошло убийство и преступнику не выгодно давать согласие, чтобы были установлены все обстоятельства его причастности к данному преступлению, следователь должен отказаться от осмотра до момента возбуждения уголовного дела.
В целях устранения таких противоречий возникает необходимость уточнить ч. 1 ст. 144 УПК РФ о возможности производства осмотра места происшествия, в том числе в жилых и иных помещениях в случаях, когда имеются достаточные данные о совершении в них преступлений.
Осмотр жилища хоть и регламентирован уголовно-процессуальным законом, однако не имеет практического значения как следственное действие. Осмотр жилища возможен только после возбуждения уголовного дела, тогда с какой целью его следует проводить, учитывая, что в действующей редакции он не предусматривает поисковых мероприятий? Для целей обнаружения каких-либо следов, объектов или лиц намного эффективнее провести обыск.
Согласно ч. 5 ст. 177 УПК РФ осмотр жилища проводится с согласия проживающих в нём лиц или на основании судебного решения. Тем самым, главным условием следственного осмотра жилища является наличие согласия проживающих в нем лиц. Такое согласие необходимо получить до начала производства осмотра, чтобы в дальнейшем, лицо, его давшее не отказалось.
Представляется необходимым отметить, что в случае если собственник жилого помещения не проживает в нем, его согласие не требуется, достаточно согласия проживающего в нем лица. Отсутствие согласия собственника в такой ситуации не будет свидетельствовать о нарушении норм уголовно-процессуального закона при производстве осмотра.
В случае если осмотром места происшествия является жилище, то наличие судебного разрешения, если проживающие против, не является исключением. Здесь возникает вполне логичный вопрос, а нужно ли получать согласие на производство осмотра в жилище у всех лиц, проживающих или находящихся в нем?
Правовая позиция Верховного суда Российской Федерации, отраженная в Постановлении Пленума Российской Федерации от 1 июня 2017 года № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» состоит в том, что в случае несогласия на производство осмотра хотя бы одного из проживающих в нем лиц, требуется судебное разрешение на его производство (п. 8 )2.
А как необходимо проводить осмотр жилища, в случае, если лицо, являющееся собственником и проживающее в нем по каким-то причинам, отсутствует продолжительное время?
Так, Верховным судом Российской Федерации отмечено, что отсутствие гражданки Т., являющейся собственником жилого дома и проживающей в нем, в силу отбывания наказания не может являться свидетельством нарушения порядка осмотра, поскольку гражданка Я. проживала в данном доме с разрешения своей сестры Т. и дала согласие на производство рассматриваемого следственного действия. Такой порядок, как вполне логично отмечено А. В. Павловым и И. П. Пилюшиным может распространяться и на иные случаи, когда лицо продолжительное время не может прибыть к месту происшествия (например, длительная командировка и др.) [8, c. 28].
Также представляется необходимым указать на то, что осмотр места происшествия возможно произвести в отсутствие проживающих лиц, если все жильцы убиты, данное следственное действие производится в случаях, не терпящих отлагательств, по постановлению следователя или дознавателя с соблюдением порядка, предусмотренного ч. 5 ст. 165 УПК РФ.
Наличие судебного контроля обеспечивает обоснованность производства такого вида следственного осмотра, что направлено на защиту прав и законных интересов лиц, проживающих в нем.
В случае, если данное требование не будет соблюдено, то, как результат производства следственного действия будет признан недопустимым доказательством и исключен из материалов уголовного дела, так и все производные от него доказательства.
Так, по ходатайству защиты суд первой инстанции признал ряд доказательств стороны обвинения недопустимыми, по причине существенности допущенных нарушений сотрудником следственного органа. Следователем в нарушение требований ст. 165, 176 и 177 УПК РФ был проведен осмотр места происшествия – жилища в отсутствие, как согласия проживающих там лиц, так и последующего судебного контроля законности такого следственного действия. В силу нарушения требований ст. 75 УПК РФ суд признал протокол осмотра места происшествия – жилища, а также всех доказательств, производных от данного протокола, в части произведенных действий с изъятыми в ходе осмотра предметами недопустимыми доказательствами и исключил из материалов дела. Доказательствами, производными от осмотра места происшествия по данному уголовному делу являлись – заключения экспертиз: судебнобиологической, молекулярно-генетической, дактилоскопической и так дале е3.
Также здесь возникает вопрос необходимо ли наличие формального основания, то есть, получение судебного разрешения на осмотр телефона? В уголовнопроцессуальном законе по этому вопросу ничего не указано. Однако в ч. 2 ст. 23 Конституции Российской Федерации указано «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения».
А. М Багмет и С. Ю. Скобелин полагают, что не во всех случаях осмотра мобильного телефона необходимо получение соответствующего решения суда [9, с. 25].
Также возникает вопрос о легитимности осмотра сотового телефона, в случае если получено судебное разрешение на производство следственного действия по результатам которого он изъят (например, обыска или осмотра в жилище).
По мнению, А. Б. Соколова, Е. И Третьяковой дополнительного судебного решения на осмотр мобильного телефона не требуется, когда указанное устройство обнаружено и изъято при производстве следственных действий на основании судебного решения, либо в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 165 УПК РФ [10, с. 217].
Как отмечено А. Л. Осиповым, российская судебная практика в большинстве случаев указывает на то, что получать специальное судебное решение для осмотра мобильного телефона (в том числе для целей фиксации данных, хранящихся в его электронной памяти) не требуется [11, с. 128].
Конституционный Суд Российский Федерации не раз высказывался по данному вопросу и еще раз подчеркнул в своём определении от 27.06.2023 № 1773- О4 том, что получение имеющей значение для уголовного дела информации, находящейся в электронной памяти абонентских устройств, изъятых при производстве следственных действий в установленном законом порядке, не предполагает вынесения об этом специального судебного решения. Лица же, полагающие, что проведение соответствующих следственных действий и принимаемые при этом процессуальные решения способны причинить ущерб их конституционным правам, в том числе праву на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, могут оспорить данные процессуальные решения и следственные действия в суд в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК Р Ф5.
Такие выводы поддерживает и правоприменительная практика. Так, осмотр мобильного телефона был признан допустимым доказательством Шестым кассационным судом общей юрисдикции, который в определении от 29.06.2022 № 77-3153/20226, указал следующее «Осмотр мобильных телефонов, изъятых у С. произведен следователем с соблюдением требований ст. ст. 164, 176, 177 УПК РФ. Проведение осмотра с целью получения имеющей значение для уголовного дела информации, находящейся в электронной памяти электронных устройств, изъятых в установленном законом порядке, не предполагает вынесения об этом специального судебного решения. При этом требования об обязательном участии в осмотре изъятых телефонов специалиста закон не содержит, в силу ст. ст. 38, 168 УПК РФ вопрос о привлечении специалиста для участия в следственном действии находится в компетенции следователя».
С учётом вышеизложенного представляется, что нет необходимости в получении разрешения суда на производство осмотра предмета – мобильного телефона, в случае если данный предмет был изъят в ходе следственных действий и проводится с целью получения имеющей значение для уголовного дела информации.
В заключении хотелось бы отметить, что предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации по рассматриваемым в настоящем исследовании вопросам обеспечат надлежащее производство по уголовному делу и будут способствовать достижению назначения уголовного судопроизводства.