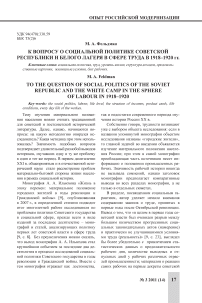К вопросу о социальной политике Советской республики и белого лагеря в сфере труда в 1918-1920 гг
Автор: Фельдман Михаил Аркадьевич
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Опыт российской модернизации
Статья в выпуске: 3 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются изменения в материально-бытовой стороне жизни рабочих и эффективность социальной политики Советской республики и белого лагеря в сфере труда. Исследованы причины неэффективности усилий белого движения по налаживанию сотрудничества с рабочим социумом.
Социальная политика, труд, уровень жизни, структура доходов, продовольственные карточки, жилищные условия, быт рабочих
Короткий адрес: https://sciup.org/14723592
IDR: 14723592 | УДК: 94(470):330.59
Текст научной статьи К вопросу о социальной политике Советской республики и белого лагеря в сфере труда в 1918-1920 гг
Тему изучения материального положения населения можно считать традиционной для советской и постсоветской исторической литературы. Далее‚ однако‚ начинаются вопросы: на какую методологию опирался исследователь? Какая методика при этом использовалась? Значимость подобных вопросов подтверждает удивительный разнобой выводов историков‚ изучавших одну и ту же проблему в один и тот же период. В первом десятилетии ХХI в. общепринятым и в отечественной исторической науке стало рассмотрение проблем материально-бытовой стороны жизни населения в рамках социальной истории.
Монография А. А. Ильюхова «Жизнь в эпоху перемен: материальное положение городских жителей в годы революции и Гражданской войны» [9]‚ опубликованная в 2007 г., в определенной степени подводит итог многолетней работе исследователя по проблемам политики Советского государства в социальной сфере‚ прежде всего в виде изданий за последнее десятилетие – монографий и статей‚ анализирующих политику первых лет советской власти в сфере труда [9, с. 8]. Без преувеличения можно сказать‚ что выход монографии А. А. Ильюхова стал крупнейшим событием за последние два десятилетия в процессе исследований социальной политики Советского государства в годы революции и Гражданской войны. Вместе с тем монография отражает как достоинства‚ так и недостатки современного периода изучения истории России ХХ в.
Собственно говоря‚ трудности возникают уже с выбором объекта исследования: если в названии упомянутой монографии объектом исследования названы «городские жители»‚ то главной задачей во введении объявляется изучение материального положения населения России; при этом в самой монографии преобладающая часть источников несет информацию о положении промышленных рабочих. Значимость рабочей истории никогда не вызывала сомнений‚ однако заголовок монографии предполагает компаративные выводы во всех разделах монографии‚ а не только в отдельных сюжетах.
В разделе‚ посвященном социальным га-рантиям‚ автор уделяет немало внимания содержанию законов о труде‚ принятых в первые годы после Октябрьской революции. Вывод о том‚ что «в целом в первые годы советской власти был очевиден разрыв между большим количеством прогресивных социальных законодательных актов (намерение) и практически не улучшившимися условиями труда (реальность)» [9, с. 23]‚ выглядел бы более убедительно с привлечением статистических данных о продолжительности рабочего дня, количестве выходных и отпускных дней у рабочих различных отраслей промышленности; материалов о реакции самих рабочих на первые декреты советской власти в сфере труда. Проблема заключается не только в этом: первые декреты нового государства старательно и осознанно воспроизводили старое (как дореволюционное‚ так и Временного правительства) законодательство о труде [5, с. 58; 23, ст. 10]. Получается‚ что царство новой социалистической жизни в принципе не могло наступить даже на бума-ге‚ т. е. на уровне нормативных документов.
В более поздней монографии (2010 г.) А. А. Ильюхов обратил внимание на то‚ что также продолжением прежней‚ дореволюционной (весны – лета 1917 г.) практики социальной политики в сфере труда (в данном случае – регулирования заработной платы) стало заключение коллективных договоров на промышленных предприятиях‚ вызвавшее появление первых тарифных сеток [10, с. 17]. Этот период продлился до весны 1918 г.‚ однако начало Гражданской войны привело к «выхолащиванию коллективных договоров» [10, с. 18–19] вследствие коренной перемены соотношения источников существования в жизни работников промышленности. Собственно говоря‚ это был частный случай превращения социальных гарантий в виртуальные.
Однако не следует и преуменьшать как пропагандистское‚ так и потенциальное значение документов‚ повышавших значение социального статуса рабочих. По мнению А. А. Ильюхова‚ стал реальностью 8-часовой рабочий день (хотя и часто нарушаемый), были образованы органы защиты и регулирования труда (НКТ и его местные подразделе-ния)‚ обеспечены минимальное социальное страхование и оплачиваемые отпуска‚ включая отпуска по рождению ребенка [11, с. 557]. Определенную роль сыграло и образование комиссии при СНК по снабжению рабочих.
Характерной чертой социальной политики Советской республики с первых месяцев ее существования стал отрыв расходов на содержание рабочих от экономической эффективности предприятий. Так, например, за январь – август 1918 г. предприятия Урала получили более 526 млн руб. субсидий. В то время как непосредственно на нужды производства было переведено 234 млн руб.‚ остальные без малого 300 млн руб. составили непроизводственные‚ часто бесконтроль-ные‚ траты на содержание Советов‚ рабочих комитетов‚ профсоюзов. Типичными были действия профсоюзов‚ принимавшие решения о существенном повышении заработной платы‚ не считаясь с экономической целесообразностью [7, с. 135].
Анализ соотношения источников существования позволяет более полно раскрыть структуру доходов рабочих. Сокращение реальной стоимости денежной части заработной платы рабочего за 1917–1921 гг. было столь масштабным (денежная часть заработной платы рабочего России составила в 1918 г. 20 %‚ в 1919 г. 5‚9 %‚ в 1920 г. 2‚1 и в 1921 г. 4‚1 % от уровня 1913 г. [9, с. 72]), что советские органы могли в принципе поставить себе в заслугу тот факт‚ что при сокращении за период с 1 ноября 1917 г. по 1 июля 1921 г. реальной ценности денежной массы в 66 раз реальная стоимость заработной платы уменьшилась «только» в три раза [9, с. 75, 88].
Однако разрушение рынка товаров и продуктов обернулось тем‚ что на свою зарплату в 1920 г. на рынке рабочий мог приобрести всего 1/10 часть пищевого рациона [9, с. 111]. В такой обстановке натурализация заработной платы действительно оказывалась единственным спасением для горожан‚ достигнув своего предела в 1920 г.‚ когда натуральные выдачи составили 93 % от стоимости заработной платы [9, с. 71, 75]. При этом степень удовлетворения потребностей рабочих продовольственными и промышленными товарами была низкой. Сделав главную ставку на внедрение карточной системы‚ советские органы вынуждены были официально разрешить (на определенные сроки) самообеспечение жителям городов [9, с. 90].
Статистические обследования‚ осуществленные в годы Гражданской войны‚ рисуют картину социальной деградации городских жителей в условиях голодной жизни. Даже в Петрограде в мае 1918 г. при биологической норме в 3 000 калорий‚ средний паек в
1 940–2 100 калорий получали две трети рабочих. Достаточный для нормального питания паек в 3 600 калорий получал всего один процент рабочих [9, с. 44]. Проведенное осенью 1918 г. (т. е. после сбора нового урожая) бюджетное обследование питания населения (в основном рабочих) в 40 городах России установило практически ту же картину – в среднем паек рабочего не превышал 2 680 калорий, или 74 % от нормы [9, с. 39–40].
В такой ситуации одним из основных источников пропитания рабочих становились хищение имущества с предприятий и нелегальное изготовление предметов потребления в рабочее время. Так, в 1918 г. доходы от хищений‚ выделывания зажигалок и т. п. составляли 15 % заработка‚ в 1919 г. – 20 %‚ в 1920 г. – 19 %. Воровство из уголовного преступления стало превращаться в средство поддержания жизни. В целом «левые» доходы‚ т. е. получаемые на заводе неофици-ально‚ достигали половины потребления рабочих в годы Гражданской войны [10, с. 30]. Стабильность и долговременность такого вида заработков позволяют сделать вывод‚ во-первых‚ о готовности власти смириться с этим масштабным явлением; во-вторых‚ о криминальной составляющей советской социальной жизни‚ зеркально отражающей неправовой характер всей государственной политики Советского государства; в-третьих‚ о двойственности мироощущения рабочих‚ с первых месяцев «пролетарской власти» сталкивающихся с безбрежной пропастью между высокими пропагандистскими лозунгами и бытом‚ наполненным нищетой и ежедневным обхождением законов.
Замечу‚ что если стержнем содержания монографий А. А. Ильюхова стало государственное регулирование в социальной сфере‚ стало быть результаты социальной политики государства должны оцениваться по степени предотвращения распада общества‚ его морального разложения‚ по степени сохранения культуры общества и отдельного человека. В этом случае современные подходы диктуют либо обращение к индексу человеческого развития – как интегральному индикатору социального развития‚ либо использование методики социокультурного подхода.
В любом случае обращение к указанной теме требует не давно известного упоминания о потерях и утратах‚ а куда менее ясного ответа: что же осталось после потрясений Гражданской войны от личности городского жителя‚ личности рабочего‚ о котором‚ собственно говоря‚ и идет речь в монографии. Макростатистика‚ использованная в моно-графии‚ выступает только началом подобных исследований‚ давая дорогу изучению сохранения культурных‚ религиозных‚ бытовых традиций‚ роли личного хозяйства‚ выполнению семейных и общественных функций и обязанностей.
Статистика тех лет дает картину рациона рабочих. В среднем за год‚ с июля 1918 г. по июль 1919 г.‚ жители городов Советской России получили по карточкам лишь 37‚7 % потребности хлеба. Две трети потребляемой массы хлеба за 1919–1920 гг. в города привезли мешочники [11, с. 559]. Как видно‚ в определенной степени рабочие занимались самоснабжением. Тем не менее в годы Гражданской войны‚ в условиях голода‚ фактически девальвирующего все виды социального обеспечения‚ кроме питания‚ пайковое снабжение было превращено в мощное и‚ надо признать‚ эффективное направление социальной политики. Уже само введение классового принципа формирования пайков (незначительное‚ но имеющее значение превышение пайка рабочего над остальными пайками жителей тыла) [9, с. 97] ставило рабочих промышленности в привилегированное положение. Поскольку многие социальные гаран-тии‚ вошедшие со временем в Кодекс законов о труде РСФСР (декабрь 1918 г.)‚ не выполнялись в годы Гражданской войны‚ органы власти‚ снимая с себя ответственность, вину за такую ситуацию возлагали на противников Советского государства. Главные же усилия социальной политики были сконцентрированы на проблеме минимального обеспечения рабочих продовольствием.
Профессиональный срез пайковой системы недвусмысленно говорил о приори- тете рабочих, занятых тяжелым физическим трудом либо трудившихся на вредных для здоровья производствах. Очевиден и отрас-левой‚ точнее‚ подотраслевой аспект проблемы: предпочтение гарантированного снабжения пайками отдавалось предприятиям‚ производящим военную продукцию [9, с. 98]. Равенство пайков рабочих однородных предприятий сводило на нет отличия в оплате труда в зависимости от квалификации и качества работы.
Как видно‚ власть стремилась найти социальную опору среди малоквалифицированных рабочих‚ продолжив контакт с теми социальными слоями‚ которые оказали поддержку большевикам в период Октябрьской революции; вошли в Советы всех уровней [19, с. 134–151]. В свою очередь‚ широкое присутствие среди леворадикалов рабочих-пролетариев позволяло советским органам активно включать (и по мере ограниченных возможностей – выполнять) запросы и требования рабочих в сфере трудовых отношений под видом непосредственной власти «диктатуры пролетариата».
Если в этом случае можно говорить о доминировании идеологического фактора и корневого родства двух социальных массивов – леворадикалов и пролетарской части рабочего класса‚ то поддержка коллективов оборонных предприятий носила чисто прагматический характер. Так с первых лет существования Советского государства в социальную политику были заложены идеологическая и прагматическая составляющие.
Судя по Уралу‚ пайковое снабжение рабочих в Советской республике в 1919– 1920 гг. эволюционировало в сторону мед-ленного‚ но‚ тем не менее‚ очевидного увеличения удельного веса потребляемого рабочими по карточкам продовольствия: с 44‚8 % в декабре 1919 г. до 55‚2 % в середине 1920 г. [24, с. 24, 32–33] (т. е. выше‚ чем у всех горожан в целом).
Важным событием процесса закрепления на производстве рабочих кадров уральской промышленности стало расширение массива рабочих бронированных предприятий (по- лучавших усиленное питание): с 120 тыс. в декабре 1919 г. до 172 тыс. в декабре 1920 г. В реальности это означало бронирование работников практически всех работавших предприятий крупной промышленности. Но в связи со стремлением рабочих и служащих хуже снабжаемых предприятий перебраться на предприятия более обеспеченные, контингент снабжающихся бронированным пайком увеличивался и вероятность получения его в соответствии с нормой уменьшалась. Тем не менее, если во второй половине 1919 г. рабочие получали 70–80 % хлеба‚ положенного по карточкам, то в 1920 г. – 85–100 %. Не забывая о цене такого «достижения»‚ обеспеченного беспощадными продразвер-стками‚ террором и репрессиями за любое неповиновение‚ за подобным увеличением можно увидеть вектор продовольственной политики: любой ценой обеспечить коллективы оборонных предприятий хлебом. Обеспечение другими продуктами (крупы‚ мясо‚ сахар) носило эпизодический характер [28, c. 44, 48].
Часть продовольствия рабочие получали через открытую на предприятиях широкую сеть столовых. В практику Гражданской войны вошло прикрепление рабочих Урала к заводским столовым, обеспечивающим горячим питанием. Общественное питание‚ выступая в качестве одной из составных частей системы распределения‚ сыграло положительную роль в смягчении продовольственного кризиса – коммунальными столовыми пользовалась примерно 1/6 часть городского населения‚ но‚ судя по Екатеринбургской губернии‚ подавляющая часть рабочих промышленных предприятий. Небольшие продовольственные пайки (состоящие в основном из муки) получали члены семей рабочих [28, с. 14] и семьи красноармейцев‚ находившихся на фронте. Так, в Уфимской губернии пайки получали 61 499 семей, или 72 % от всех нуждающихся. Близкая к этому картина была и в Пермской губернии [28, с. 140–141].
При скудности поступающего из централизованных фондов продовольствия (в
1920 г. фактическое наполнение продоволь-свенных карточек рабочих Урала не превышало 10 % по мясу и сахару; было нулевым по крупам) [28, с. 47] в лучшем положении оказывались рабочие – владельцы земельных участков и домашнего скота [25, c. 147–198]. Все это вместе позволило советской власти в условиях голода и разрухи привлечь на предприятия значительную часть рабочих, смягчив для них разразившийся продовольственный кризис.
Так же, как и продовольствием, снабжение обувью и одеждой производилось органами советской власти по классовому принципу‚ строго, по более чем скромным нормам. При этом значительную часть выданных рабочим в этот период предметов первой необходимости составляла производственная одежда. Практиковались и выдачи рабочим предметов обычной одежды из фондов конфискации в квартирах имущих [28, с. 15].
Следует отметить и то‚ что социальная политика в сфере труда в Советской республике выгодно отличалась от аналогичной в белом лагере. Главный недостаток рабочей политики белых правительств‚ по обоснованному мнению В. М. Рынкова‚ наиболее полно исследовавшего эту проблему [21]‚ состоял в том‚ что она была направлена на решение проблем второго плана‚ в то время как первоочередные‚ связанные со своевременной оплатой труда и снабжением рабочих‚ никак не регулировались государством [21, с. 98, 112].
Социальная политика правительств «демократической контрреволюции» формировалась представителями меньшевиков‚ которые возглавляли министерства и ведом-ства‚ занимавшиеся рабочим вопросом. За недолгий период «демократической контрреволюции» им удалось разработать примерно одинаковый пакет законов и законопроектов об охране труда: о 8-часовом рабочем дне‚ о найме и увольнении рабочих‚ о страховании на случай болезни и производственной трамвы‚ о примирительных камерах и биржах труда и др. Часть законодательных актов была взята за основу при подготовке постановлений колчаковского правительства и вступила в силу уже в период военной диктатуры [17, с. 16].
Как ни значимы были переход значительной части рабочих на сдельную оплату труда (в Уральском регионе такой переход реально произошел осенью 1918 г. [21, с. 166]); действие механизмов индексации заработной платы; восстановление института больничных касс [21, с. 211–215]; толерантность профсоюзов и гибкость поведения промышленников [21, с. 164–173]; другие меры социальной политики‚ позволившие отдельным группам рабочих‚ «несмотря на тяжелейшие условия жизни‚ оставаться твердой опорой режиму» [21, с. 172]‚ в условиях войны это были действительно «проблемы второго плана». Поскольку инфляция «пожирала» ставки социальных трансфертов намного быстрее‚ чем они индексировались [21, с. 220]‚ на первый план выходила система натурального снабжения работников по найму. Не случайно современные историки весьма негативно оценивают реальные достижения социальной политики правительств «демократической контрреволюции» и диктатуры Колчака [12, с. 8].
Однако там‚ где лидеры белого лагеря (особенно правительства «демократической контрреволюции») делали ставку на соблюдение законодательства о труде и важное для мирного времени повышение денежной части оплаты труда‚ там советские структуры власти занимались централизованным распределением продовольствия и производственной одежды, без сомнения‚ на основе невиданной в истории первых десятилетий ХХ в. конфискаций. Именно «очевидное недопонимание белыми значения натурального снабжения отдельных групп рабочих и служащих» в условиях дефицитной экономики [21, с. 174] привело к тому‚ что государственные чиновники не считали продовольственное обеспечение занятых на предприятиях первостепенной задачей [21, с. 175].
Результатом такой политики стал не только срыв планов подвоза продовольствия на уральские заводы [21, с. 175]‚ но и поддерж- ка большинством рабочих той власти‚ которая смогла решить указанную проблему‚ не считаясь с социальной ценой и чудовищными «издержками».
Как видно‚ реформистские сдвиги в трудовом законодательстве в годы войны ценятся и принимаются населением только в тесной связи с величиной продовольственного пайка. В этой связи высказывание‚ адресованное белым правительствам‚ о том‚ что «жесткое восстановление трудовой дисциплины на производстве‚ перевод рабочих на сдельную систему труда» привело к ухудшению материального положения рабочих» [22, с. 17], следует отнести к разряду ничем не обоснованных. Куда более точным наблюдением для белого лагеря является замечание об отсутствии механизма эффективного государственного и общественного контроля над деятельностью работников аппарата заготовок и снабжения [22, с. 17]. Как извест-но‚ в лагере красных подобные механизмы контроля осуществляли партийные органы и структуры ЧК [14, с. 24; 6, с. 28]; чрезвычайные органы власти [26, с. 21].
Важной частью социальной политики стали мероприятия власти в жилищной сфере. Действительно‚ советские органы сразу после Октябрьской революции пытались улучшить жилищные условия пролетарского населения. Главная задача‚ стоявшая перед исследователями, заключалась в выяснении: насколько масштабен был слой рабочих‚ получивших дополнительную жилую площадь?
В монографии А. А. Ильюхова 2007 г. можно найти только отдельные факты по двум-трем городам. Так, приведены интересные данные по городу Твери‚ где местные органы получили 3 000 заявлений на жилье‚ а уплотнение (вселение рабочих в квартиры представителей зажиточных слоев населения) дало возможность за первую половину 1918 г. удовлетворить 1 000 заявлений (т. е. только треть) [9, с. 150]. Однако более полных данных в монографии не приводится. Мало что дают и сообщения о том‚ что в Москве в целом за 1918–1920 гг. было переселено 24 тыс. рабочих [9, с. 150–151]. Какая часть рабочих-москвичей смогла улучшить жилищные условия? Кто были эти люди? Насколько вырос средний размер жилищного владения рабочего? Думается‚ выражения типа «часть рабочих (Урал‚ шахтеры Донбас-са‚ рабочие небольших предприятий‚ расположенных вне городов) имели свои дома или хибары. Часть жила в фабричных казармах и на частных квартирах» [10, с. 149] не учитывают конкретные сведения‚ содержащиеся в трудах исследователей данной проблемы [13; 19].
По нашим подсчетам, сделанным на основе статистики Ю. И. Кирьянова, в собственных домах проживали по меньшей мере 30 % рабочих промышленности России, учтенных переписью 1918 г. [19, с. 121]. В реальности этот показатель был большим: к августу 1918 г. из городов и рабочих поселков в сельскую местность ушла значительная часть рабочих промышленности. Так, по данным переписи 1918 г., к владельцам собственных домов были отнесены 39,5 % рабочих Вятской губернии – единственной из уральских губерний, попавшей в разработку. Однако данные переписи 1926 г. показали: 59 % всех горнозаводских и фабрично-заводских рабочих Урала проживали в собственных домах [2, с. 324–325]. Такой же показатель фиксируют материалы профессиональной переписи 1918 г. в ведущих отраслях Вятской губернии – в горнозаводской промышленности и металлообработке и машиностроении [8, с. 142]. На другом полюсе находились Петроград и Москва, где в своих домах проживали, соответственно 1,7 и 0,7 % рабочих. Более того, в отличие от рабочих остальных районов страны, столичные пролетарии в своей массе (89,5 % питерцев и 51,5 % москвичей) вынуждены были оплачивать проживание [13, с. 230–232].
Но где же проживали рабочие, лишенные собственного дома? Примерно 14 % рабочих России в 1918 г. обитали в казармах (напомним: на рубеже веков – 34 %). Это была наиболее обделенная часть пролетариата. 13 % проживали в отдельных помещениях, предоставляемых предприятием. 43 % рабо- чих снимали жилье у хозяев [13, с. 230–232]. Специфику металлургических заводов юга определяло проживание большинства рабочих на вольных квартирах, а работников шахт и железных рудников – в казармах и бараках [13, с. 234].
Как видно, два обстоятельства в принципе суживали масштаб «квартирного передела»: малый размер городского жилищного фонда и наличие у постоянных заводских рабочих своего жилья, вследствие чего в жилищном уплотнении были заинтересованы не кадровые рабочие, а «пришлые» рабочие – жители барачного фонда и постояльцы.
Подобно политике в сфере заработной платы, мероприятия советской власти в жилищной сфере имели ту же социальную сфокусированность на обширных маргинальных и наиболее обездоленных группах рабочих. Спецификой стало переселение рабочих в квартиры, прежде всего в столицах и крупных городах. Заметим, что подселение рабочих в «буржуйские» квартиры носило в регионах локальный характер в силу незначительности непролетарских слоев в рабочих центрах. В подтверждение этого тезиса приведем результаты уплотнения жилья в Воронеже: за 1918–1919 гг. средняя кубатура жилых помещений рабочих выросла с 14,76 до 15,12 куб. м [1, с. 12]. Близкими к ним были и весьма ограниченные по размерам показатели уплотнения жилья в Перми [19, с. 126]. Поскольку достижения в этой области были весьма скромные, возникает вопрос об эффективности жилищной политики на принципах уравнительства в целом. Кроме того, муниципализация городских строений коснулась только городов и городских поселений, имеющих более 10 тыс. жителей [1, с. 11].
Справедливости ради надо сказать, что наиболее вопиющие крайности леворадикального толка в подходах советских органов к проблеме жилищной собственности пришлись на первые месяцы 1918 г. и были связаны главным образом с произволом большевиков и эсеров-максималистов против рабочих казенных заводов: запретом пользования покосами‚ ловли рыбы в пруду.
Леворадикалы «замахнулись и на право владения землей»: деньги за сдаваемые комнаты в своих жилищах рабочие были обязаны перечислять в коммунальное правление [27, с. 279]. Если же к этому добавить запрет на частную торговлю‚ разрушение традиционного волостного управления‚ доминирование в Советах «пришлых» [16, с. 60–63; 3, с. 25, 29]‚ становится понятным‚ почему в глазах населения заводских поселков новая власть воспринималась как чужеродное и враждебное явление. После восстания ижевских и воткинских рабочих в августе 1918 г.‚ власти стремились избежатъ подобных крайностей.
Тенденция к пролетаризации просматривалась и в этой сфере. Как вспоминает современник, «у рабочих постепенно отняли все то, что не полагалось иметь пролетарию. Шла жестокая перекройка: рабочих-собственников силой переделывали в пролетариев чистой воды. Деньги за сдающуюся в своем доме площадь рабочий должен был отдавать в коммунальное правление. Это очищало от буржуазных предрассудков» [16, с. 60–61]. Уплотнение жилья в уральских городах и поселках первых послереволюционных лет – явление, прямо скажем, малоизученное – стало еще одной формой политизации рабочего быта. Та немногая часть рабочих провинции, которая оказалась в непривычной роли «уплотнителей», была вынуждена принимать аргументацию и логику большевистских пропагандистских клише [29, с. 511].
Иными были результаты жилищного уплотнения в столицах, где часть рабочих, остававшаяся в городах в годы Гражданской войны, проявившая лояльность к власти, смогла улучшить условия своего проживания. О масштабе переселения рабочих в Петрограде можно судить по таким, к сожалению, неполным данным: с ноября 1918 г. по сентябрь 1919 г. в благоустроенные квартиры были переселены 30 тыс. рабочих [4, с. 276– 277]. Данные по Москве более систематизированы: после переселения 20 тыс. рабочих в 1918 г. в благоустроенные дома (и выселения с указанной жилплощади 3 197 человек из семей, отнесенных к буржуазии) [4, с. 275] процесс уплотнения продолжался. К концу 1921 г. 94 тыс. московских рабочих и членов их семей смогли улучшить свои жилищные условия. Две трети из них заселили 471 дом-коммуну, возникшую в реквизированных бывших особняках [15, с. 143, 146–147]. В Екатеринбурге за 1920 г. жилищные условия улучшили 420 семей рабочих [28, с. 142].
В большинстве случаев речь шла о вселении семьи рабочего в часть комнаты; реже – в комнату. Осложняло переселение и то, что благоустроенные квартиры находились в центре городов, а промышленные предприятия располагались на окраинах. В результате рабочим приходилось тратить время и деньги на проезд к месту работы [18, с. 22].
Таким образом, жилищное уплотнение в годы Гражданской войны привело к весьма органиченному улучшению условий проживания сравнительно небольшой группы пролетариев (даже в столицах менее 10 % промышленных рабочих). Но значение такого явления усиливалось тем, что в благоустроенные квартиры въехали не только рабочие, оказавшие активную поддержку новой власти, но и жители столиц, традиционно игравших особую роль в истории России. По справедливому замечанию М. Г. Мееровича, жилищная политика осознанно использовалась советской властью как мощное и эффективное средство управления людьми, в частности, как средство дисциплинарного воздействия на «нетрудящихся» и «плохо трудящихся» [18, с. 6].
Если постановление НКВД в конце октября 1917 г. «О правах городских самоуправлений в деле регулирования жилищного вопроса» фактически санкционировало жилищный передел, то декрет СНК от 20 августа 1918 г. «Об отмене прав частной собственности на недвижимости в городах» отменял право частной собственности на все участки земли, включая застроенные. В результате вопросы владения любым жильем перешли в сферу компетенции государственных структур [18, с. 12–14]. Поскольку во время Гражданской войны сохранилась дореволюционная града- ция рабочего социума на владельцев жилья; жильцов заводских казарм и квартир «постояльцев», жилье в руках власти выступало весьма ощутимой формой принуждения к труду; закрепления рабочих на предприятиях. Сам факт вселения рабочих в комнаты и углы «буржуйских» квартир широко использовался пропагандистской машиной, порождая надежды и иллюзии рабочих на быстрое решение жилищного вопроса.
Сочетание карточной системы и бронированного целевого снабжения с жилищным уплотнением позволило властным структурам РСФСР привлечь на свою сторону неимущие слои рабочего класса. Однако в условиях острой нехватки продовольствия и промышленных товаров‚ дефицита рабочих мест основная масса кадровых рабочих – владельцев своего жилья и земельных участков – была вынуждена приступить к работе на заводах, шахтах и рудниках.
В свою очередь принятие Кодекса законов о труде‚ создание органов защиты и регулирования труда (НКТ и его местных подразделений) наряду с переходом части рабочих в советские и партийные органы создавали иллюзию (широко поддерживаемую пропагандой) о наступлении эры «рабочего государства».
В условиях Гражданской войны роковой для белого лагеря оказалась не только правовая пунктуальность, оборачивавшаяся потерей времени‚ но и промедление с мобилизацией и милитаризацией промышленности. Примечательно‚ что мероприятия подобного характера‚ в частности постановление правительства Колчака от 19 сентября 1919 г., окончательно передававшее контроль над промышленностью и торговлей‚ чья работа могла быть связана с обслуживанием армии‚ министру продовольствия и снабжения‚ было принято уже после поражения белой армии в сражении за Урал [21, с. 117]. Если промедление с денационализацией вызвало отчетливое недовольство предпринимателей – ведущего социального слоя поддержки белого движения [21, с. 99]‚ то запоздалая тенденция к расширению вмешательства государства в управ- ление частной собственностью суживала возможности антисоветского лагеря по мобилизации экономики в условиях войны. Наряду с этим государственная власть делала упор на реформирование рабочего законодательства с учетом опыта развитых стран‚ однако «новый порядок распространялся только на частные предприятия» [21, с. 220]. Между тем большинство крупных промышленных предприятий оставалось в казенном ведении. И не только крупных. Основная масса частных заводов и копей на Востоке России оставалась в ведении казны [21, с. 98, 112].
Как видно‚ вектор законотворческих действий белых правительств в сфере тру- да и вектор экономической политики‚ ядром которого выступают отношения собствен-ности‚ оказались разнонаправленными. В этом заключалась еще одна важная причина неэффективности усилий белого движению по налаживанию сотрудничества с рабочим социумом.
Между тем в ХХ в. даже в раннеиндустриальном обществе победу одерживала та власть, которая могла привлечь на свою сторону основную массу рабочих промышленности. Долговечность правления такой власти во многом определялась способностью вывести социальную политику на уровень‚ сколько-нибудь конкурентоспособный с другими странами.
Список литературы К вопросу о социальной политике Советской республики и белого лагеря в сфере труда в 1918-1920 гг
- Введенский А. С. Жилищное положение фабрично-заводского пролетариата СССР/А. С. Введенский. -М.; Л.: Гос. эконом. изд-во, 1932. -78 с.
- Всесоюзная перепись населения 1926 г. -М.: Изд. ЦСУ Союза ССР, 1929. -Т. 54. -342 с.
- Бехтерев С. Л. Эсеро-максималистское движение в Удмуртии/С. Л. Бехтерев. -Ижевск: РАН. Урал. отд-ние. Удмурт. ин-т истории, языка и литературы, 1997. -192 с.
- Гимпельсон Е. Г. Советский рабочий класс. 1918-1920 гг.: социально-политическое измерение/Е. Г. Гимпельсон. -М.: Наука, 1974. -320 с.
- Декреты Советской власти. -М.: Госполитиздат, 1957. -Т. 1. -627 с.
- Дианов А. С. Политический контроль в Пермском крае в 1919-1929 гг./А. С. Дианов. -Пермь: ПГПУ, 2008. -201 с.
- Дмитриев Н. И. Экономика по Колчаку: поиск путей развития/Н. И. Дмитриев//Урал в событиях 1917-1921: актуальные проблемы изучения. -Челябинск‚ 1999. -С. 131-151.
- Дробижев В. З. Рабочий класс Советской России в первый год пролетарской диктатуры/В. З. Дробижев, А. К. Соколов, В. А. Устинов. -М.: Изд-во МГУ, 1975. -285 с.
- Ильюхов А. А. Жизнь в эпоху перемен: материальное положение городских жителей в годы революции и Гражданской войны/А. А. Ильюхов. -М.: РОССПЭН, 2007. -263 с.
- Ильюхов А. А. Как платили большевики: Политика советской власти в сфере оплаты труда в 1917-1941 гг./А. А. Ильюхов. -М.: РОССПЭН‚ 2010. -415 с.
- Ильюхов А. А. Трудовые отношения в Гражданскую войну: доктрины и реальность//Гражданская война в России/А. А. Ильюхов. -М.: Раритет, 2002. -С. 543-564.
- Камынин В. Д. Альтернативы гражданской войны в отечественной историографии/В. Д. Камынин//Урал в событиях 1917-1921: актуальные проблемы изучения. -Челябинск‚ 1999. -С. 7-15.
- Кирьянов Ю. И. Жизненный уровень рабочих России/Ю. И. Кирьянов -М.: Наука, 1979. -287 с.
- Кобелева Е. А. Место и роль органов ЧК в процессе становления советского государства. 1918 -начало 1922 г. (на материалах Пермского Прикамья)/Е. А. Кобелева: автореф. дис. … д-ра ист. наук. -Пермь, 2005. -48 с.
- Кузнецова Т. В. К вопросу о путях решения жилищного вопроса в СССР/Т. В. Кузнецова//История СССР. -1963. -№ 5. С. 140-147.
- Лотков С. Н. Камско-воткинский завод и его рабочие/С. Н. Лотков//Ижевско-Воткинское восстание. 1918 г. -М.: Посев, 2000. -С.60-63.
- Никонова О. Ю. Социально-экономическая политика правительств «демократической контрреволюции» и диктатуры Колчака на Урале (1918-1919)/О. Ю. Никонова: автореф. дис. … д-ра ист. наук. -Челябинск, 1996. -48 с.
- Меерович М. Г. Наказание жильем: жилищная политика в СССР как средство управления людьми. (1917-1937 годы)/М. Г. Меерович. -М: РОССПЭН, 2008. -300 с
- Постников С. П. Социокультурный облик промышленных рабочих России в 1900 -1941 гг./С. П. Постников, М. А. Фельдман. -М.: РОССПЭН‚ 2009. -367 с.
- Постников С. П. Власть и рабочие Урала в 1917 г.: очерки истории и историографии/С. П. Постников, М. А. Фельдман. -Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2011. -155 с.
- Рынков В. М. Социальная политика антибольшевистских режимов на Востоке России (вторая половина 1918 -1919 г.)/В. М. Рынков. -Новосибирск: Институт истории СО РАН, 2008. -438 с.
- Салазникова С. С. Антибольшевистские правительства Сибири и Урала в период «демократической контрреволюции (январь -ноябрь 1918 г.)/С. С. Салазникова: автореф. дис. … д-ра ист. наук. -Екатеринбург‚ 2005. -48 с.
- Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и крестьянского правительства (СУ). -1917. № 1.
- Труды ЦСУ. Т. 8. Вып. 1. -М.: Изд. ЦСУ, 1921. -371 с.
- Фельдман М. А. К вопросу о землепользовании рабочих Урала в первые десятилетия ХХ в.//Вопросы истории Урала. № 19/М. А. Фельдман. -Екатеринбург: Изд-во УрГУ. 2006. С. 174-198.
- Чистиков А. Н. Партийно-государственная бюрократия Северо-Запада Советской России 1917-1920-х гг./А. Н. Чистиков: автореф. дис. … д-ра ист. наук. -СПб.‚ 2007. -48 с.
- Чураков Д. О. Революция‚ государство‚ рабочий протест: Формы, динамика и природа массовых выступлений рабочих в Сов. России. 1917-1918 гг./Д. О. Чураков. -М.: РОССПЭН,2004. -366 с.
- Шиловцев А. В. Социальная политика советской власти на Урале в годы Гражданской войны (июль 1919-1920 г.)/А. В. Шиловцев: автореф. дис. … канд. ист. наук. -Екатеринбург‚ 1994. -24 с.
- Яров С. В. Массовое сознание в 1917-1920 гг.: формы политизации/С. В. Яров//Проблемы социально-экономической и политической истории. -СПб., 1998. -С. 507-515.