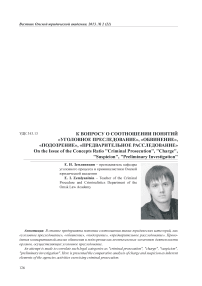К вопросу о соотношении понятий «уголовное преследование», «обвинение», «подозрение», «предварительное расследование»
Автор: Земляницин Е.И.
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Противодействие преступности: вопросы теории и практики
Статья в выпуске: 2 (21), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка соотношения таких юридических категорий, как «уголовное преследование», «обвинение», «подозрение», «предварительное расследование». Проводится компаративный анализ обвинения и подозрения как неотъемлемых элементов деятельности органов, осуществляющих уголовное преследование.
Подозрение, обвинение, уголовный процесс, уголовное преследование, предварительное расследование, подозреваемый
Короткий адрес: https://sciup.org/14317541
IDR: 14317541 | УДК: 343.13
Текст научной статьи К вопросу о соотношении понятий «уголовное преследование», «обвинение», «подозрение», «предварительное расследование»
Suspicion, charge, criminal procedure, criminal prosecution, preliminary investigation, suspect.
Современное уголовно-процессуальное законодательство активно претворяет идеи состязательности, справедливости и законности производства по уголовным делам. Процесс расследования преступлений представляет собой сложное соединение огромного количества элементов, которые обусловливают результат деятельности правоприменителя.
Безусловно, уголовное преследование – это не единичный поведенческий акт, а длительный и сложный процесс, успешным результатом которого является раскрытие преступления и привлечение виновного в его совершении лица к ответственности.
Среди ученых-процессуалистов развернулась перманентная дискуссия по поводу соотношений понятий «уголовное преследование», «обвинение», «предварительное расследование», а также относительно организационно-правового и процедурного построения уголовного преследования как сложной системы. Так, М. С. Строго-вич указывал, что «уголовное преследование – это обвинение как уголовно-процессуальная функция, т. е. обвинительная деятельность»1, при этом подчеркивая, что уголовное преследование направлено против обвиняемого – лица, привлеченного к уголовной ответственности по обвинению в совершении преступления2. Однако утверждение о тождестве момента начала уголовного преследования и появления такого участника уголовно-процессуальных отношений, как обвиняемый, нельзя назвать достоверным. А. М. Ларин утверждал, что уголовное преследование необходимо рассматривать как уголовно-процессуальную деятельность, которая состоит в формулировании и обосновании тезиса о совершении конкретным лицом общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом3.
Вместе с тем момент начала уголовного преследования с появлением такого участника уголовно-процессуальных отношений, как обви- няемый, связывать достаточно сложно. При этом необходимо признать, что речь идет о концепции обвинения советской уголовно-процессуальной науки, ряд положений которой в последние годы подвергнуты определенной ревизии. Так, Н. Д. Сухарева считает, что уголовное преследование и обвинение различаются не только основаниями и процедурой, но и рядом существенных признаков, таких как начальный момент осуществления процессуальной функции, субъекты, в отношении которых осуществляется процессуальная деятельность и объем процессуальной деятельности4.
Вместе с тем необходимо обратить внимание и на определенную непоследовательность современного отечественного законодателя при формулировании норм уголовно-процессуального закона. В соответствии с п. 55 ст. 5 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Как справедливо отмечает Ю. В. Дери-шев, уголовное преследование начинается еще до момента начала производства по уголовному делу, а функция обвинения возникает лишь в связи с вынесением постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого либо составлением обвинительного акта5.
Действительно, следует признать, что «уголовное преследование» – понятие гораздо более широкое, нежели «обвинение». Обвинение является составной частью деятельности лиц, уполномоченных осуществлять уголовное преследование. Традиционно как для уголовного судопроизводства в целом, так и для уголовного преследования в частности основное внимание и учеными-процессуалистами, и практиками уделялось обвинению. Связано это с тем, что на этапе обвинения у следователя (дознавателя) уже был определенный объем информа- ции, позволяющий с известной долей вероятности утверждать о совершении лицом инкриминируемого деяния. Подозрение как элемент механизма уголовного преследования не получало должного внимания, воспринималось лишь как «предобвинение», факультативный элемент. В то же время подозрение является одним из промежуточных этапов предварительного расследования между началом расследования и предъявлением обвинения6.
Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что в современном Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации в равной мере не исследуются такие элементы уголовного преследования, как подозрение и обвинение. На сегодняшний день понятию «подозрение» уделяется мало внимания, о чем свидетельствует хотя бы отсутствие его дефиниции в положениях ст. 5 УПК РФ, в то время как термин «обвинение» свое закрепление нашел.
Так, согласно п. 22 ст. 5 УПК РФ обвинение – утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном УПК РФ. В то же время одним из оснований появления в уголовном судопроизводстве такого участника, как подозреваемый, является возбуждение в отношении конкретного лица уголовного дела. Однако возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица, по сути, и есть утверждение о совершении лицом деяния, запрещенного уголовным законом под угрозой наказания. Нетрудно сделать вывод о сходстве процессуальной сущности акта о возбуждении уголовного дела и обвинения. На сегодняшний день порой представляется непростой задачей найти границу, переходный этап от подозрения к обвинению.
Если представить деятельность органов предварительного расследования как процесс перехода от «незнания к знанию», то на этапе, когда отсутствуют достаточные данные, указывающие на совершение конкретным лицом преступления, у правоприменителя возникают лишь подозрения в отношении какого-либо лица о совершении последним преступления. В дальнейшем сторона обвинения должна в установленном законом порядке проверить имеющиеся у нее по- дозрения путем сбора доказательств по уголовному делу. И только после того как обоснованные подозрения найдут свое подтверждение, возможен переход к стадии обвинения. Данные выводы находят свое подтверждение в положениях УПК РФ (п. 22 ст. 5, ст. 171).
В последнее время наметилась тенденция более детального развития нормативного регулирования стадии возбуждения уголовного дела, а точнее, расширения правовых средств так называемой доследственной проверки. Законодателем были введены нормы, позволяющие следователю (дознавателю) назначать экспертизу до возбуждения уголовного дела, а также появился новый субъект уголовно-процессуальных отношений – лицо, в отношении которого проводится предварительная проверка сообщения о преступлении (п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ). Такое лицо, безусловно, нельзя именовать обвиняемым, поскольку отсутствуют как фактические, так и юридические основания к этому. Однако нельзя отрицать некоторую «преследовательскую» направленность указанных положений. На наш взгляд, положение п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, регламентирующего начало участия защитника с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, позволяет сделать вывод о фактическом наличии подозрений в отношении такого лица. Таким образом, уголовное преследование начинается именно с этапа формирования и проверки подозрения в отношении определенного лица.
Уголовное преследование персонифицировано. Стоит согласиться с мнением Е. Г. Мартын-чика, который утверждает, что уголовное преследование неразрывно связано с изобличением подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления, то есть «привязано» к личности участника уголовного судопроизводства7. В то же время если уголовное дело возбуждается по факту совершения преступления, то трудно говорить о начале уголовного преследования. Возбуждая уголовное дело в отношении неустановленных лиц, следователь (дознаватель) выполняет функции по осуществлению предварительного расследования8.
Стоит отметить, что соотношение понятий «уголовное преследование» и «предварительное расследование» также является весьма дискуссионным вопросом среди ученых-процессуалистов, в связи с чем необходимо провести их разграничение.
Так, В. Т. Томин, М. П. Поляков, А. С. Александров делают ряд весьма важных выводов относительно соотношения вышеуказанных понятий. Исследуя ст. 5 УПК РФ, так называемый глоссарий, авторы утверждают, что уголовное преследование включает в себя также и розыскные меры, которые принимаются органом расследования. Кроме того, детальное исследование положений п. 15 ст. 5 УПК РФ, в которой содержится легальная дефиниция термина «момент фактического задержания», позволяет сделать вывод, что уголовное преследование возникает еще до возбуждения уголовного дела и осуществляемая оперативно-розыскная деятельность, предшествующая деятельности уголовно-процессуальной, также должна рассматриваться как уголовное преследование9. Кроме того, вышеуказанные авторы в своем исследовании соглашаются с тем, что «уголовное преследование в УПК РФ шире понятия «предварительное расследование», последнее является формой уголовного преследования10. Однако авторы не до конца, на наш взгляд, учитывают тот факт, что в УПК РФ отсутствует единый досудебный процессуальный режим, который позволил бы исключить стадию возбуждения уголовного дела. Таким образом, термин «уголовное преследование» гораздо шире по своему содержанию, нежели термин «предварительное расследование», и не может употребляться как тождественный ему.
Из всего вышеизложенного следует, что современное уголовно-процессуальное законодательство нуждается в доработке и совершенствовании. Как справедливо отмечает Ю. В. Дери-шев, в современном уголовно-процессуальном законодательстве «достаточно очевидно просма- тривается банальный системный интерес – эффективнее решать свои задачи, зачастую узковедомственные и сиюминутные»11, тогда как более общие, но в то же время фундаментальные положения уголовно-процессуального закона остаются недоработанными и оттого вызывают множество негативных эмоций у представителей теоретического и правоприменительного цеха.
Итак, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 1) все досудебное производство реализуется через функцию уголовного преследования, момент начала которого совпадает с моментом фактического ограничения прав лица, вовлеченного в уголовный процесс; 2) обвинение является составной частью уголовного преследования и берет свое начало лишь с момента принятия процессуального решения о привлечении лица в качестве обвиняемого. Рассматривать данные понятия как тождественные друг другу не представляется возможным; 3) подозрение, являясь неотъемлемой частью уголовного преследования, не находит по сей день надлежащей нормативной регламентации в положениях УПК РФ, что приводит к необоснованному сужению представлений о структуре уголовного преследования; 4) предварительное расследование является формой осуществления уголовного преследования, которая, в свою очередь, дифференцируется на предварительное следствие, дознание и сокращенное дознание; 5) термин «уголовное преследование» нуждается в доработке и уточнении. Целесообразно было бы изложить его в следующей редакции: «Уголовное преследование – процессуальная деятельность, состоящая из нескольких этапов (подозрение и обвинение) и осуществляемая стороной обвинения на стадии проверки сообщения о преступлении, предварительном расследовании и на стадии судебного производства в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления».
Список литературы К вопросу о соотношении понятий «уголовное преследование», «обвинение», «подозрение», «предварительное расследование»
- Строгович М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. М., 1951. С. 81-82
- Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 192
- Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. М., 1986. С. 12-13
- Сухарева Н. Д. О понятии «уголовное преследование»//Российский следователь. 2002. № 10. С. 24
- Деришев Ю. В. Досудебное уголовное преследование по УПК РФ//Государство и право. 2004. № 12. С. 45, 46
- Пантелеев И. А. Подозрение в уголовном процессе России: учеб. пособие. Екатеринбург. 2001. С. 3
- Мартынчик Е. Г. УПК Российской Федерации: достижения и нереализованные возможности//Российский судья. 2002. № 4. С. 5
- Томин В. Т., Поляков М. П., Александров А. С. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Вводный. М., 2002. С. 38, 40
- Ю. В. Деришев. Об аксиологии современного законотворчества в сфере уголовного судопроизводства//Вестник Омского юридического института. 2012. № 1. С. 43