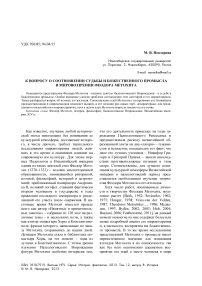К вопросу о соотношении судьбы и божественного промысла в мировоззрении Феодора Метохита
Автор: Невзорова Марина Владимировна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 8 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Освещаются представления Феодора Метохита – видного деятеля Палеологовского Возрождения – о судьбе и божественном промысле. Особое внимание уделено проблеме соотношения этих категорий в его мировоззрении. Также разбирается вопрос об истоках его взглядов. Сопоставление идей Метохита с воззрениями его ближайших предшественников и современников позволяет выявить в его позиции ряд новых черт, нехарактерных для традиционного византийского мировосприятия, хотя в целом идеи Метохита выросли именно на его почве.
Феодор метохит, история, философия, палеологовское возрождение, византийская империя, xiv в.
Короткий адрес: https://sciup.org/147218943
IDR: 147218943 | УДК: 930.85;
Текст научной статьи К вопросу о соотношении судьбы и божественного промысла в мировоззрении Феодора Метохита
Как известно, изучение любой исторической эпохи невозможно без понимания ее культурной атмосферы, достижение которого, в числе прочего, требует тщательного исследования мировоззрения людей, живших в это время и оказавших влияние на современную им культуру. Для эпохи первых Палеологов в Византийской империи одним из таких деятелей стал Феодор Метохит (1270–1332) – человек многосторонней образованности, занимавшийся риторикой, поэзией, философией, историей и астрономией; приближенный императора Андроника II, великий логофет, ставший фактически вторым человеком в государстве в годы правления последнего императора и разделивший его участь после свержения. В настоящее время Метохит известен прежде всего как автор «Памятных и примечательных заметок» – собрания из 120 эссе на различные темы – и нескольких поэм, а также как ктитор монастыря Хоры в Константинополе, фрески которого, написанные по заказу Метохита, сохранились до наших дней. Детищем Метохита стала и библиотека монастыря Хоры, на тот момент – одна из лучших в Константинополе. С точки зрения изучения Палеологовского Возрождения фигура Метохита особенно интересна тем, что его деятельность пришлась на годы зарождения Палеологовского Ренессанса и предшествовала расколу византийской образованной элиты на два «лагеря» – гуманистов и исихастов; показателен тот факт, что двое его лучших учеников – Никифор Григора и Григорий Палама – заняли впоследствии противоположные позиции в этом споре. Соответственно, для лучшего понимания культурной атмосферы Византийской империи в палеологовский период представляется необходимым изучение творчества Феодора Метохита и его взглядов.
Хотя число работ, посвященных личности и творчеству Феодора Метохита, неуклонно растет [Beck, 1952; Ševčenko, 1962; 1975; Hunger, 1978; Vries-van der Velden, 1987; Theodoros Metochites…, 1996; Медведев, 1997; Bydén, 2002; 2003; Hult, 2004; Bazzani, 2006; Featherstone, 2011], на данный момент немногие из них содержат более или менее подробный анализ его мировоззрения и, в частности, восприятия им божественного промысла. В то же время исследование представлений Метохита о промысле имеет первостепенное значение для понимания взглядов Метохита в их совокупности, так как без него невозможно адекватное восприятие его идей о месте человека в мире
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 8: История © М. В. Невзорова, 2013
и наилучшем способе поведения в жизни. А без изучения этих идей, в свою очередь, нельзя окончательно разрешить вопрос о роли и месте Феодора Метохита и его творчества в современной ему культуре.
Первой крупной работой, в которой была затронута тема божественного промысла, стала изданная более полувека назад монография Г.-Г. Бека [Beck, 1952], на долгое время определившая восприятие учеными наследия Феодора Метохита. Бек был убежден, что под именем πρόνοια, традиционно обозначавшим божественный промысел в сочинениях византийцев, у Метохита скрывается некая таинственная безымянная сила, имеющая сходство с εἱμαρμένη – неотвратимой безличной закономерностью, универсальной и всеобщей обусловленностью явлений. Центральное же место в мировоззрении Метохита принадлежит, по мнению Бека, своенравной и непредсказуемой судь-бе-Тихи. В тех случаях, когда Метохит все-таки говорит о божественном промысле в традиционном смысле, он лишь копирует расхожие штампы византийской теологии – возможно, для того, чтобы привести свое мировоззрение в некоторое соответствие с господствующей идеологией, – предполагает Бек.
Еще более настойчиво подчеркивает разрыв Метохита с религиозным мировоззрением его предшественников И. П. Медведев, посвятивший одну из глав своей монографии проблеме детерминизма и свободы воли в последние века существования Византийской империи. Он уже прямо отождествляет божественный промысел Метохита с εἱμαρμένη и подробно разбирает часто используемую им метафору «всемирного театра», где капризная Тихи доставляет людям всяческие неприятности, действуя согласно распоряжениям промысла («т. е. εἱμαρ-μένη», – добавляет Медведев [1997. C. 133]). Таким образом, Медведев видит в сочинениях Метохита описание «экзистенциализи-рованного» мира, в котором человек потерян и дезориентирован, и все, что ему остается – лишь научиться противостоять Тихи с должной готовностью.
Указанные работы – серьезный вклад в изучение наследия Феодора Метохита; тем не менее выводы о его понимании божественного промысла, сделанные авторами, представляются нам не вполне отражающими специфику мировоззрения Метохита и характер его связи с предшествующей философской традицией. Так, в работе И. П. Медведева термин «πρόνοια» при анализе фактически подменяется εἱμαρμένη; при этом автор вовсе игнорирует те места «Гномических заметок», содержание которых не оправдывает такой замены (см.: [Theodori Metochitae, 1821. S. 405–412]. В свою очередь, Г.-Г. Бек объясняет тематическое «выбивание» этих мест из основной концепции мироустройства в «Гномических заметках» их жанровым отличием: эти главы по форме более остальных приближены к риторическим упражнениям и часто описывают общие места византийской теологии. В этом Бек видит основание не доверять содержанию данных глав, так как в них Метохит мог выражать идеи, отличные от его истинных взглядов.
Следствием такого подхода становится «раздвоение» мировоззрения Метохита в «Гномических заметках», обусловленное в том числе взглядом Бека на это произведение как на беспорядочное собрание дневниковых записей, мелких заметок и небольших риторических сочинений на различные темы. Однако авторы более поздних исследований, подвергнув тщательному изучению структуру и язык «Гномических заметок», пришли к выводу, что, несмотря на кажущуюся хаотичность, их главы составляют цельное произведение, а их порядок отнюдь не случаен и подчинен вполне конкретному авторскому замыслу (см., например: [Bydén, 2002. P. 246–248]). Следовательно, если мы хотим верно понять мировоззрение Метохита, мы должны основывать свои выводы на содержании всех глав его сочинения: ведь даже повторяя в своем произведении то, что было хорошо известно до него, он имел в виду некую цель, не обязательно сводящуюся к демонстрации своей солидарности с официальной позицией церкви. Для того чтобы ее выяснить, необходимо увидеть замысел Метохита в его целости.
Авторы новейших статей, посвященных мировоззрению Феодора Метохита, склонны с осторожностью относиться к идее его конфронтации с христианством. В их трудах преобладает точка зрения, согласно которой Тихи и божественный промысел в сочинениях Метохита представляются явлениями одного порядка [Featherstone, 2011. P. 340; Bydén, 2011. P. 1268]. Б. Байден находит возможным даже отождествить их друг с другом, считая Тихи синонимом божественного промысла. Это представление точнее соответствует тексту Метохита; несомненным его достоинством является то, что его сторонники не расчленяют мировоззрение Метохита на враждующие между собой фрагменты. Однако при этом без ответа остается вопрос: если Тихи и божественный промысел – одно и то же, с какой целью Метохит различает их?
Целью данной статьи и будет попытка ответить на вышеозначенные вопросы и разрешить проблему соотношения божественного промысла и судьбы в мировоззрении Феодора Метохита.
Центральным положением «Гномических заметок» является восходящий к поздним стоикам тезис об изменчивости и неустойчивости всего в жизни, которая часто приводит людей в отчаяние. Развивая эту мысль, Метохит прибегает к многочисленным сравнениям и аллегориям, уподобляя жизнь то морю [Theodori Metochitae, 1821. S. 796–797], то плаванию на корабле, ход которого никогда невозможно предсказать заранее [Ibid. S. 179, 302, 414 и др.], то игре в кости, то непостижимому музыкальному произведению, в котором самым неожиданным образом переплетаются различные тональности [Ibid. S. 187, 795].
Но самое яркое из всех сравнений, наиболее развернуто представленное Метохитом на страницах его «Гномических заметок» – это, безусловно, сравнение жизни со «всемирным театром» (παγκόσμιον θέατρον, κοινὸν θέατρον, βιωτικὸν θέατρον), где все люди – актеры, а основное действие развертывается благодаря судьбе-случаю – Тихи (Τύχη). По сути, вся мировая история для Метохита – лишь «игралище судьбы», один огромный пример ее изменчивости и непостоянства.
Метохит настолько увлечен описанием козней, которые Тихи непрестанно подстраивает людям, что ее образ вырастает у него до невероятных масштабов. При этом упоминания о влиянии на людские дела божественного промысла (πρόνοια) практически отсутствуют. Фактически он лишь несколько раз мимоходом упоминается Метохитом то как сила, в соответствии с λόγοι которой действует Тихи, то как руководитель хора (χορηγός) во всемирном театре. Исключением является лишь гл. 66, по- священная недалеким людям, чья вера в божественный промысел непрочна [Ibid. S. 405–412].
Именно это обстоятельство дало Г. Хун-геру, Г.-Г. Беку и И. П. Медведеву основание утверждать, что Тихи вытесняет божественный промысел в мировоззрении Метохита, превращая его в холодную и слепую силу, управляющую делами людей [Beck, 1952. S. 106; Медведев, 1997. С. 132], аналог εἱμαρμένη, что, в свою очередь, свидетельствует, по их мнению, об отходе Метохита от религиозных традиций византийской философии.
Данный вывод представляется нам излишне радикальным.
Прежде всего, ни в одном месте «Гномических заметок» контекст, в котором упоминается божественный промысел, не противоречит традиционному церковному взгляду на эту силу. Вопреки мнению Бека, окружающего πρόνοια Метохита ореолом зловещей таинственности, можно констатировать, что всякий раз, говоря о подчиненности Тихи промыслу, Метохит упоминает этот факт эмоционально нейтрально, без высказывания какого бы то ни было субъективного отношения к нему. В то же время в гл. 66 он сравнивает Бога, осуществляющего промысел, с кормчим на корабле и с врачом, чьи действия не всегда приятны страждущим, но всегда направлены к их благу [Theodori Metochitae, 1821. S. 412]. Так Метохит дает читателям понять, что, несмотря на все зло, происходящее в мире, конечной целью Бога является благо людей. Кроме того, мы узнаем о том, что божественное установление по самой своей сути не может быть злом для человека [Ibid. S. 353]. Итак, всего вышеперечисленного уже вполне достаточно для того, чтобы отказаться от тезиса о равнодушии, коварстве и тем более злом умысле, присущим божественному промыслу. Сам же автор практически ничего не сообщает нам о промысле – возможно, в силу того, что «всё было уже сказано» до него и все священные установления уже даны [Ibid. S. 14–15], и добавлять к ним что-либо от себя было бы явно излишним. Известно и его скептическое отношение к теологии как науке [Ibid. S. 370–376].
Божественный промысел упоминается в сочинениях Метохита крайне редко по сравнению с судьбой-Тихи. При этом интересно, что последняя представляется ав- тору своего рода «посредником» Бога, действующим в соответствии с его λόγοι [Theodori Metochitae, 1821. S. 188, 304]. Этого положения мы не найдем у современников и ближайших предшественников Метохита, воспринимавших судьбу и божественный промысел как антиподы. Так, у Анны Комниной божественный промысел неизменно связывается со стечением обстоятельств, удачным для Алексея Комнина и его соратников (см.: [Комнина Анна, 1965. С. 69, 92, 106,107, 134 и др.]). Если же удача сопутствует его врагам, Анна видит в этом происки судьбы [Там же. С. 81, 116 и др.]. Аналогичное соотношение судьбы и промысла встретим у Никиты Хониата [1991. C. 219, 225, 226, 231], видящего действие божественного промысла в победах императора Феодора, а судьбу характеризующего как «враждебную силу, всегда присутствующую при [всем] хорошем и тайно проникающую вместе с ним, уменьшающую радость и вместо нее приносящую мучения» [Там же. C. 232] и виноватую во внезапных неудачах императора. В «Римской истории» Никифора Григоры наряду с вышеописанной трактовкой судьба присутствует также в виде случайности при описании событий (как правило, тоже неприятных), причины которых не видны автору [1862. С. 26, 51, 61, 63 и др.]. Иначе говоря, судьба у них появляется там, где по тем или иным причинам отсутствует Бог, и всячески противостоит божественному промыслу.
У Метохита противоположность Тихи и божественного промысла не исчезает совсем, но приобретает чисто эмоциональный характер. В то же время они находятся в отношениях соподчинения. Тихи является посредником Бога и действует в соответствии с Его промыслом. В результате она оказывается органично вписанной в православную картину мира.
Метохит не устает сетовать на непредсказуемость и неустойчивость, возникающие в жизни людей благодаря действиям Тихи. Однако если рассматривать отрывки, посвященные этому обстоятельству, не выхватывая их из авторского контекста, мы увидим, что это не просто жалобы, «θρῆνος» [Beck, 1952. S. 103] человека, который и сам пострадал от козней судьбы. Также едва ли можно счесть их «опосредованной хулой на Провидение» [Медведев, 1997. С. 129]. Нетрудно заметить, что всякий раз за опи- саниями поведения Тихи и непрочности всего в человеческой жизни (довольно, впрочем, пространными) у Метохита следуют размышления и практические рекомендации касательно более или менее успешного преодоления описанного порядка вещей. Он не устает ругать людей «поистине недалеких и совершенно безумных» [Theodori Metochitae, 1821. S. 795], забывающих об изменчивости судьбы, как только окажутся в некой благоприятной ситуации; и превозносит тех, кто, подобно Одиссею перед лицом сирен, сковал свои чувства: «не нужно быть уверенным в том, что что-либо из происходящего стоит внимания, но [всё происходящее] непостоянно и всегда обращается в противоположное тому, что есть» [Ibid. S. 178]. Многочисленные примеры, приводимые им, служат лишь для доказательства этой точки зрения. Можно сделать вывод, что пассажи, связанные с образом Тихи, служат Метохиту прежде всего для иллюстрации и более наглядного представления своих идей, касающихся самовоспитания человека и надлежащего поведения в жизни.
В целом концепция Метохита не вступает в противоречие с официальной византийской теологией. Чтобы увидеть это, достаточно сопоставить ее с представлениями о мироустройстве Максима Исповедника, автора всеобъемлющего синтеза святоотеческого богословия. В своих сочинениях он не использует образ Тихи, однако убежден, что сотворенному миру присуще непрестанное движение, в противоположность Богу-Создателю, который неподвижен (см., например: [Преподобный Максим Исповедник, 2006. С. 58]). Ко времени Метохита это положение стало уже общепризнанным. Также Максим первый развил мысль о том, что все в мире происходит согласно божественным логосам (λόγοι). У каждой вещи – свой логос, и если она будет двигаться в согласии с ним, то в конечном итоге воссоединится с Богом. В следовании логосам Максим Исповедник и видит задачу человека и всего мира в целом [Преподобный Максим Исповедник, 2006. C. 66–67]. Эту же идею Метохит передает метафорически с помощью образа «всемирного театра».
Однако в сравнении с идеями Максима Исповедника концепцию Метохита отличает небывалый драматизм. Максим Исповедник всеми своими помыслами устремляется к Богу; бесстрастие, которого надлежит добиваться человеку, расцветает у него «бесстрастной страстью» любви к Богу, обоже-нием человека. Повествование же Метохита неизменно вращается вокруг земных дел и невзгод, лишь изредка поднимаясь над ними. Бесстрастие у него – прежде всего лекарство от больших потрясений, от которых не застрахован ни один человек. Вдумчивый читатель «Гномических заметок» не может не заметить разительного контраста между подчиненным положением Тихи и вниманием, которое ей уделяет Метохит, снова и снова возвращаясь к описаниям ее коварства и необходимости ему противостоять. Г. Хунгер, Г.-Г. Бек, а вслед за ними и И. П. Медведев объясняли этот контраст скрытой оппозицией автора по отношению к господствующей идеологии (возможно, им самим не осознанный в полной мере) [Beck, 1952. S. 108–110, 114; Hunger, 1978. S. 52; Медведев, 1997. C. 134]. Нам представляется более убедительным отнести его на счет цели, которую преследовал Метохит, говоря о Тихи, а именно – предостеречь и наставить читателя. Вероятно, Метохит намеренно избрал такой ракурс изображения мира (что важно, практически ничего не изменив в сути традиционного церковного представления), чтобы его неустойчивость оказалась на первом плане. Если принять эту точку зрения, мы увидим, что скупость упоминаний Метохитом Божественного Провидения является следствием не утери «интереса» к Нему автора, а отдаления от Бога самих людей, наставляемых Метохитом. Так что автор, желающий быть полезным миру и говорить с ним на одном языке, вынужден начинать с того, чтобы истолковать принцип действия Тихи и продемонстрировать его на многих примерах.
Близость Метохиту образа Тихи, а также его стремление предостеречь современников и потомков от беспечности проистекают, вероятно, из обстоятельств жизни Метохита. Его собственная судьба, как известно, сложилась весьма трагично; кроме того, печальные для Византии политические события, свидетелем и прямым участником которых оказался Метохит, также могли заострить его внимание на мысли о переменчивости и бренности всего сущего. Особенно важно, что и задолго до Метохита эта идея существовала сначала в стоической, а затем и в христианской традиции и была хорошо знакома образованным византийцам, хотя обычно и не получала в их произведениях столь экспрессивного выражения.
Подводя итог, следует сказать, что анализ «Гномических заметок» не дает нам повода говорить о безличности и «зловещем» характере божественного промысла и тем более отождествлять его с εἱμαρμένη. По своим характеристикам божественный промысел у Метохита вполне соответствует его традиционному видению в византийском богословии. С другой стороны, представляется неточным утверждение о полном тождестве божественного промысла и судьбы-Тихи: хотя эти две силы делают одно дело, Тихи занимает по отношению к промыслу подчиненное положение, и задача человека состоит в том, чтобы за ее кознями научиться различать мудрые распоряжения Бога и принимать их с покорностью и бесстрастием. Оригинальность позиции Метохита заключается прежде всего в том, что, описывая устройство мира, он концентрирует свое внимание на закономерностях земной жизни людей, находящейся под управлением Тихи, и практически игнорирует все, что находится за ее пределами, внося таким образом элемент дисгармонии в мировосприятие, характерное для предшествующих византийских писателей и богословов.
FOR THE QUESTION ON RELATIONS BETWEEN FORTUNE AND PROVIDENCE IN THEODORE METOCHITES’ WORLD OUTLOOK
Список литературы К вопросу о соотношении судьбы и божественного промысла в мировоззрении Феодора Метохита
- Григора Н. Римская история (1204-1341)/Пер. П. И. Шалфеева. СПб., 1862. 565 c.
- Комнина Анна. Алексиада/Пер. с греч. Я. Н. Любарского. М., 1965. 686 с.
- Медведев И. П. Византийский гуманизм, XIV-XV вв. СПб., 1997. 341 с.
- Никита Хониат. Речь, составленная к прочтению перед киром Феодором Ласкарем, властвующим над восточными poмейcкими городами, когда латиняне владели Константинополем, Иоанн Мизийский же со скифами предпринимал набеги на западные ромейские земли/Пер. П. И. Жаворонкова//Византийские очерки: Труды советских ученых к XVIII Международному конгрессу византинистов. М., 1991. С. 216-238.
- Преподобный Максим Исповедник. О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия (Амбигвы). М., 2006. 464 с.
- Bazzani M. Theodore Metochites, a byzantine humanist//Byzantion. 2006. Vol. 76. P. 32-52.
- Beck Н.-G. Theodoros Metochites. Die Krise des byzantinischen Weltbildes im 14. Jahrhundert. München, 1952. 146 S.
- Bydén B. The Nature and Purpose of the Semeioseis Gnomikai: The Antithesis of Philosophy and Rhetoric//Hult K., Bydén B. Theodore Metochites on Ancient Authors and Philosophy: Semeioseis Gnomikai 1-26 & 71. Göteborg, 2002. P. 245-288.
- Bydén B. Theodore Metochites//Encyclopedia of Medieval Philosophy/Ed. by H. Lagerlund. Univ. of Western Ontario, 2011. P. 1266-1269.
- Bydén B. Theodore Metochites' Stoicheiosis Astronomike and the Study of Natural Philosophy and Mathematics in Early Palaiologan Byzantium. Göteborg, 2003. 547 p.
- Featherstone M. Theodore Metochites Seimeioseis gnomikai: personal encyclopedism//Encyclopedic trends in Byzantium? Proceedings of the International Conference held in Leuven, 6-8 May 2009. Leuven; P.; Walpole, 2011. P. 333-344.
- Hult K. Theodore Metochites as a literary critic//Interaction and isolation in late byzantine culture. Stockholm, 2004. P. 44-56.
- Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Teilbd 1: Philosophie, Rhetorik, Epistolographie, Geschichtsschreibung, Geographie. Μünchen, 1978. 547 S.
- Ševčenko I. Études sur la polémique entre Théodore Métochite et Nicéphore Choumnos. Bruxelles, 1962. 330 р.
- Ševčenko I. Theodore Metochites, the Chora, and the Intellectual Trends of his Time//The Kariye Djami. Princeton, 1975. Vol. 4. P. 17-91.
- Theodori Metochitae. Miscellanea philosophica et historica/Eds. C. G. Müller, T. Kiessling. Lipsiae, 1821. 838 S.
- Theodoros Metochites on Philosophic Irony and Greek History. Miscellanea 8 and 93/Eds. P. A. Agapitos, K. Hult, O. L. Smith. Nicosia; Göteborg, 1996. 48 p.
- Vries-van der Velden E. de. Théodore Métochite: une reevaluation. Amsterdam, 1987. 276 p.