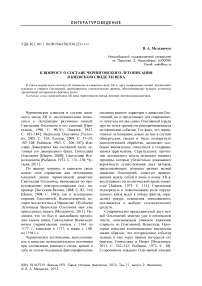К вопросу о составе черниговского летописания в Киевском своде XII века
Автор: Мельничук Валентина Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье выдвигается гипотеза об отражении в киевском своде XII в. двух независимых ветвей летописания: младших и старших Ольговичей, анализируются стилистические приемы, обеспечивающие нужную летописцу презентацию исторических фактов в тексте.
Киевский свод xii века, черниговские князья, позиция летописца-рассказчика
Короткий адрес: https://sciup.org/14737751
IDR: 14737751 | УДК: 821.161.1`04.09+94(470):930.221«11»
Текст научной статьи К вопросу о составе черниговского летописания в Киевском своде XII века
Черниговские известия в составе киевского свода XII в. исследователями возводятся к Летописцам различных князей: Святослава Ольговича и его сыновей [Приселков, 1996. С. 90–91; Лихачев, 1947. С. 183–184]; Всеволода Ольговича [Толоч-ко, 2003. C. 105; Котляр, 2009. С. 33–34, 102–108; Рыбаков, 1963. С. 306–307]; Изя-слава Давыдовича как составной части летописи его двоюродного брата, Святослава Ольговича [Шеков, 2008]; Святослава Всеволодовича [Рыбаков, 1972. С. 131–138; Чугаева, 2011].
По нашему мнению, в киевском своде нашло свое отражение как летописание младшей линии черниговской династии: Святослава Ольговича, являющееся по происхождению новгород-северским (см., например: [Бестужев-Рюмин, 1868. С. 82, 144; Шеков, 2008. С. 106]), так и летописание старших Ольговичей, Всеволодовичей, которое могло вестись в Чернигове. Об объеме Летописца Всеволода Ольговича нам уже приходилось писать [Мельничук, 2011]. Полагаем, что он был в дальнейшем продолжен сыном князя, Святославом Всеволодовичем (черниговским князем с 1164 по 1177 г., киевским в 1177, а также с 1181 по 1194 г.).
Черниговское летописание, использованное в качестве вспомогательного источника при составлении киевского свода, хранит в себе не только бесценные фактографические сведения разного характера о династии Оль-говичей, но и представляет для современного читателя взгляд самих Ольговичей (среди других точек зрения) на разворачивающиеся исторические события. Тот факт, что черниговское летописание дошло до нас в составе общерусских сводов и было подвергнуто идеологической обработке, заставляет особенно внимательно относиться к сохранившимся фрагментам. Скрупулезное прочтение летописного текста позволяет выявить примеры, которые убедительно доказывают вероятность существования двух авторов, представляющих позицию разных ветвей династии Ольговичей, зачастую враждовавших между собой и лишь в концу XII в. выступавших на политической арене совместно [Зайцев, 1975. С. 114]. Стремление подчеркнуть в повествовании роль определенного князя ведет к отбору фактов, определяет ракурс освещения описываемого, сказывается в выборе стилистических средств.
Соперничество представителей двух ветвей Ольговичей заметно уже в летописном тексте, описывающем киевское княжение старшего из Ольговичей, Всеволода. Некоторые известия композиционно выстроены таким образом, что исторические события поданы в них через призму интересов его братьев, Святослава и Игоря [Мельничук, 2011. С. 542–543; Рыбаков, 1972. С. 38]. Сторонником младших Ольговичей описано
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 2: Филология © В. А. Мельничук, 2012
спустя несколько лет после смерти Всеволода черниговское княжение его сына, Святослава. Стилистическим средством презентации событий в нужном ракурсе являются авторские ремарки. Рассказывая об обстоятельствах восшествия на черниговский престол Святослава Всеволодовича, рассказчик постепенно убеждает читателя в правоте другого претендента на престол, представителя младшей линии Ольговичей, князя Олега Святославовича. Сообщив под 1164 (6672) г. о клятве, данной черниговским епископом Антонием, – не посылать к Святославу Всеволодовичу весть о смерти его дяди, автор приводит слова епископа: « Да не погинете душею и будете предатели яко Июда » (И, 523) . Следующий за тем комментарий настораживает читателя: « Ge же молвяше нмъ, лесть тля в сове. Бяше во родом Греяинъ. Ge же первое целовл святого Gплсл, се же створи злое преступление » (И, 523). Ремарка « лесть тля в сове » сигнализирует об авторском отношении и, опережая события, заранее настраивает читателя не только против епископа, но и против князя, которому предательски передана новость. Последним штрихом в формировании контекста, позволяющего рассказчику расставить нужные ему акценты, является авторское замечание: « Олег же ил ся поступив^, уллдися Gвятосллву соступи Черниговл » (И, 523). Очевидно авторское стремление защитить интересы князя Олега Святославовича. Текст при этом не содержит никаких сведений, которые могли бы как-то раскрыть мотивировку действий соперничающего с ним двоюродного брата.
Заняв черниговское княжение, Святослав Всеволодович, как отметил летописец, обещал наделить землями племянников, но « не упрлви » (И, 523). Кульминацию вотчинного раздела между князьями читаем под 1167 (6675) г., когда разгорелся спор из-за Вщижского наследства. Авторская ремарка: Олег просил « в прлвду нлделенья », а также подчеркивание факта заступничества
Все ссылки на текст Ипатьевской летописи (по Ипатьевскому списку) даются по изданию ПСРЛ. 1998. Т. 2. При цитировании мы отказались от орфографического воспроизведения текста. В круглых скобках после указания на цитируемый список (И – Ипатьевский) арабскими цифрами обозначен номер столбца.
киевского князя Ростислава Мстиславича, увидевшего, что Святослав Всеволодович обижает Олега (И, 525), красноречиво свидетельствуют о позиции рассказчика. Таким образом, в описании событий с участием соперничающих между собой представителей черниговского княжеского рода (один в это время является черниговским князем, другой – новгород-северским) выделяются заметки, автор которых, используя ремарки, мастерски защищает Олега Святославича.
Отношение смоленских князей Ростиславичей к младшим и старшим Ольговичам было различным в разное время. В рассмотренном выше фрагменте под 1167 г. летописец отметил факт заступничества со стороны киевского князя Ростислава Мстиславича за Олега, обижаемого двоюродным братом. В описании под 1174 г. вражды Андрея Бо-голюбского и Ростиславичей ощутимым является голос автора, сторонника Ростиславичей, стремящегося, по словам Б. А. Рыбакова, «очернить» Ольговичей [1972. С. 32, 67, 77]. Приводя в тексте полное имя лишь одного из Ольговичей, обрадовавшихся ссоре князей, автор мог выразить таким способом отношение именно к нему: « И се слы-шлвше Ольговияи, и рлди вышл. Gвято-сллв Бсеволодияь и вси врлтья его по-сллшл муже свое к Андрееви, поводяяе и нл Ростисллвияе, л рькуяе ему: “ Кто тове ворогь, тот и нлмъ. А се мы с товою готови ”» (И, 572).
Отражая в тексте прежде всего значительные события, летописец на протяжении XII в. постепенно все больше подробностей начинает сообщать о чувствах князей, их переживаниях, мыслях и т. п. Осведомленность летописца о внутреннем состоянии князя, как правило, сочетается с расположенностью к нему. Вот почему отмеченный летописцем факт злорадства маркирован нами в качестве стилистического приема данного автора.
Аналогичным примером является известие о победе половцев над русскими князьями под 1177 (6685) г.: «То слышлвши Олговияи, Бсеволодияь Gвятосллв оврлдо-влшлся, лки не ведуще Божия клзни» (И, 603). В рассказе о походе против Всеволода Суздальского под 1180 (6688) г. приведен внутренний монолог князя (в то время занимавшего киевский престол), произнесенный в состоянии охватившей его ярости и характеризующий его с отрицательной сто- роны: «И не удержакся от ярости, пере-ступя кресть, и перееха чересь Днепръ, и помысли ко уме скоем: “яко Дакыда иму, а Рюрика кыжену из земле, и при-иму единъ класть Русскую и с Братьею, и тогда мьщюся Всеколоду обиды ское”» (И, 615). Для сравнения приведем слова автора, передающие то, что происходило в душе князя Давыда Ростиславича: летописец уточняет, что князь не ведал ниоткуда зла, «зане крестом честным уткердился» (о сочувствии Ростиславичам см.: [Бестужев-Рюмин, 1868. С. 141; Рыбаков, 1972. С. 134]). Заметным является разное расположение летописца к Святославу Всеволодовичу и Давыду Ростиславичу. Если учесть, что летописный текст использовался в качестве опоры при принятии различных политических решений [Конявская, 2005. С. 253; Михайлова, 2011], то можно предположить, что приведенные выше факты могли быть использованы соперниками черниговских князей.
Благосклонное отношение к Ростиславичам окрашивает даже известие о восшествии Всеволода Святославовича на Киевский престол под 1177 (6685) г.: князь останавливается у Витечева, и «Ту приехаша к нему Чернии КлоБуци, ту же приехаша к нему Кияне, рекуче: “уже Роман шелт к Белугороду”. Скятослак же книде к Киек к день скятого пророка Илье» (И, 604). Автор в данном известии отступил от традиционного способа описания прихода на великокняжеский престол (об этом см.: [Творогов, 1962. С. 279]): киевляне не встречают князя с поклоном и радостью, но сообщают ему об уходе князя Романа в Белгород, – в результате торжественность момента снята. Для сравнения приведем другой отрывок под 1150 (6658) г., повествующий о встрече Изяслава Мстиславовича киевлянами: так же, как в примере со Святославом Всеволодовичем, люди сообщают Изяславу, что Юрия нет в Киеве, однако они подчеркивают свое желание видеть Изясла-ва на престоле: «И тако изидоша протику Изяслаку многое множестко и рекоша Изяслаку: “Гюрги кышел ис Киека, а Вя-чеслак седит ти к Киеке, а мы его не хочем”» (И, 396). И чуть ниже в тексте: «Кияне же рекоша Изяслаку: “ты наш князь, поеди же к скятой Софьи”» (И, 397)». В примере с черниговским князем рассказчик стремится подчеркнуть роль Ростиславичей в вокняжении Святослава Всеволодовича на киевском троне, так как спустя несколько предложений читаем: «Ростислакичи же не хотяче гуБити Русской земли и христианской кроки проли-кати, сгадакше, даша Киек Скятослаку, а Роман иде к Смоленску» (И, 605).
Летописец фиксировал исторические факты, следуя литературному этикету. При этом «уровень историзма», корректируемый жанровыми канонами, был определен еще и внутренним самоопределением книжника [Дергачева-Скоп, Алексеев, 2004. С. 70]. Отношение рассказчика к описываемому в некоторых случаях диктовало свои законы презентации описываемого.
В конце 60-х гг. XII в. на страницах киевского свода находим лишь упоминание о князе Святославе Всеволодовиче. Так, под 1169 (6677) г. сообщается о том, что выгнанная Мстиславом Изяславичем мать Владимира « иде Чернигоку к Всеколодо-кичу » (И, 537); под 1170 (6678) г. князь назван среди участников похода, организованного Мстиславом Изяславичем против половцев (И, 538). Деятельность представителя младших Ольговичей, Олега, занимавшего в то время новгород-северский престол, освещена чуть подробнее. Под 1167 (6675) г. отмечены рождение его сына, смерть жены, зафиксирован возглавляемый им поход против половцев: « Тем же летом Бися Олег Скятослакич с Боняком, и поБеди Олег полокци » (И, 527). В описании совместного похода Ольговичей против половцев под 1168 (6676) г. внимание летописца вновь приковано к князю Олегу, об успехах которого он сообщает в первую очередь: « Той же зиме ходиша Олгокичи на полокци. Бе бо тогда люта зима кел-ми, и кзя Олег кеже Козины, и жену, и дети, и злато и сереБро, а Ярослак Бег-люкокы кеже кзя, и похкаликше Бога и пречистую его Матерь, козкратишася ко скояси » (И, 532).
Среди известий времени черниговского княжения Святослава Всеволодовича заметны такие, которые можно отнести к его Летописцу.
После сообщения о восшествии на киевский престол Романа Ростиславовича в тексте неожиданно помещена следующая фраза: « В то же кремя седящу Скятослаку
Всеволодовичю в Чернигове, л Романови седящу в Киеве, и начаша Половци пакость творити по Руси » (И, 568) (о вхождении данной фразы в состав летописца Святослава см.: [Рыбаков, 1972. С. 136; Чугаева, 2011. С. 132–133]). В данном примере рассказчиком метко выбран стилистический прием, подчеркивающий одновременно важность черниговского княжения, которое приравнено по значению к киевскому, и роль самого князя, занимавшего этот престол. Летописцу Святослава Всеволодовича можно отнести его обращение под 1174 (6682) г. к киевскому князю Ярославу Изяславичу: « На чем еси целовал крест, а помяни первый ряд, рекл во еси: “ Оже я сяду в Киеву, то я теве наделю. Паки ли ты сядеши в Киеве, то ты мене надели. Ныне же ты сел еси, право ли, криво ли, надели же мене... я не угрин ни Ля\, но единого деда есмы внуци, а колко тове до него, только и мне ”» (И, 578).
Мы не согласны с трактовкой данного фрагмента Б. А. Рыбаковым [1972. С. 32], который считает, что летописец равнодушно пишет о конфликте князей, однако проявляет при этом объективность, изложив переговоры противников, в которых аргументы Святослава кажутся убедительными. Полагаем, что приведенные прямые речи являются литературным приемом, обеспечивающим нужную автору презентацию описываемого. Перекликается с данным примером обращение Ольговичей (в рядах которых был отец Святослава Всеволодовича) к Ярополку Владимировичу под 1135 г., с требованием отдать то, что имел их отец: « И пакы Олговичи начаша просити у Яро-полка : “ что ны отец держалъ при ва-шемъ отци , того же и мы хочемъ ; аже не вдасть , то не жалуите , что ся удееть , то вы виновати , то на васъ буди кровь ”» (И, 296).
Рукой благоволившего к князю рассказчика составлено описание усобицы под 1175 г., когда Олег Святославович напал на Чернигов. Уверенно считать автора черниговским можно, лишь сопоставив фрагменты одного текстологического ряда в Ипатьевском и в Лаврентьевском списках. Текст Ипатьевского списка более подробный, при этом автор описывает сам момент встречи князей (отсутствующий в Лаврентьевском списке), подчеркнув, что Олег бежал после того, как противники «только по стреле стреливше». Злорадство автора в данном фрагменте, отмеченное Б. А. Рыбаковым, является еле ощутимым [Там же. С. 115].
Анализ повествования времени киевского княжения Святослава Всеволодовича требует отдельного серьезного исследования. Заметим лишь, что некоторые из известий, атрибутируемых Летописцу этого князя, отличаются занимательностью за счет большого количества подробностей разного рода. Например, в рассказе под 1177 (6684) г. о походе, организованном Михалкой и Всеволодом Юрьевичами на Владимир, внимание летописца приковано к сыну Святослава Всеволодовича, участвовавшему в походе, Владимиру: « бдущу же Володимерю Ввя-тославичю на перед, и выступи полк из загорья, все во вроня\, яко во всяком леду » (И, 601). Использованное рассказчиком сравнение делает изображенную картину легко представимой; прием ретардации задерживает читательское внимание.
В описании другого похода с участием сына Святослава Всеволодовича, Владимира, на болгар под 1182 (6690) г. летописцем указаны маршруты следования князей, названы болгарские города, уточняется, где именно князья оставили « носады и галее », воеводы названы по именам, а про Дорожаи сказано, что « то бо бяше ему отень слуга » (И, 625) и т. д. Точно указывая маршрут, автор выказывает детальное знание мест, где происходят события, при этом – будто рассчитывает на то, что и читатель обладает теми же сведениями. Возникает доверительная атмосфера непринужденной беседы: « Бысть идущим по Волзе на Болгары, поидоша на место, идеже островь, наре-цаемый Исади, устье Цевце выседь на верегь » (И, 625) (о черниговском происхождении известия см., например: [Рыбаков, 1972. C. 120–121]). Аналогичное выражение « идеже нарецает » использовано автором под 1183 (6691) г. в описании совместного похода русских князей против половцев: Святослав « ста ту, идеже нарецает Ин-жирь вродь » (И, 631), « Половци же уз-ревше Володимеь полкь крепко идущь на них... Оним же ехавшимь по ни\ъ, не постигше возворотишася Русь, и стояша на месте, нарецаемем брель, егоже Русь зовет угол » (И, 631-632).
Анализ способов презентации исторических фактов в киевском своде XII в. позволяет говорить об отражении в его составе Летописцев двух ветвей династии Ольгови-чей, каждый из которых характеризуется своей стилистической манерой. Заинтересованность летописца в том, чтобы подчеркнуть в повествовании роль определенного князя, сказывается в отборе фактов, выборе ракурса освещения описываемого. Выполняя социальный заказ, следуя строгим риторическим законам построения текста, автор все же описывает происходящее в своей индивидуальной манере. Литературное мастерство рассказчика, заметное в целом спектре применяемых стилистических приемов, «интонационном фразовом рисунке», делает возможным определить самого автора как «литературную личность» [Тынянов, 1993. С. 134–135].
PROBLEM OF THE OF CHERNIGOV CHRONICLE STRUCTURE IN KIEV CODE
OF THE XII CENTURY