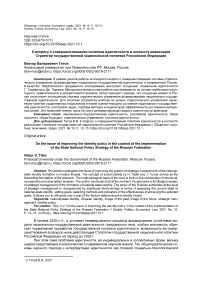К вопросу о совершенствовании политики идентичности в контексте реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
Автор: Титов Виктор Валериевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 10, 2021 года.
Бесплатный доступ
В рамках данной работы исследуется вопрос о совершенствовании системы стратегического управления формированием национально-государственной идентичности в современной России. В качестве теоретического фундамента исследования выступает концепция социальной идентичности Г. Тэджфела и Дж. Тернера. Методологическая основа работы выстраивается на основе комбинации структурного, сравнительного и дескриптивного анализа. Автор приходит к выводу, что на данный момент в России отсутствует полноценная система стратегического управления формированием национально-государственной идентичности. Для политики российских властей на уровне стратегического управления характерно наличие существенных недостатков в плане оценки текущего состояния национально-государственной идентичности, постановки задач, подбора методов и индикаторов эффективности достижения выбранных целей. Это позволяет влиять лишь на часть детерминирующих модель идентичности факторов.
Национально-государственная идентичность, российская идентичность, образ прошлого, образ будущего, стратегическое управление, политика идентичности
Короткий адрес: https://sciup.org/149137170
IDR: 149137170 | УДК: 323(470+571) | DOI: 10.24158/pep.2021.10.1
Текст научной статьи К вопросу о совершенствовании политики идентичности в контексте реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия, ,
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,
В начале 2020-х гг., в условиях незавершенного процесса формирования устойчивой модели национально-государственной идентичности гражданского типа, особую значимость обретает нормативная проработка государственной политики идентичности, возможности ее совершенствования в ракурсе ныне действующей Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.
При этом сама проблема идентичности, ее индивидуальных и коллективных форм, весьма широко представлена в классическом и современном научном знании. Так, общетеоретические основы научного подхода к интерпретации идентичности как сложной социально-психологической
макроструктуры, механизмов ее конструирования были заложены еще Э. Эриксоном [1]. П. Бергер и Т. Лукман [2] выделили в качестве ресурса конструирования групповой идентичности дискурсивные практики, а Э. Хобсбаум [3] - интеракции символического и/или ритуального характера, направленные на интеграцию человека в пространство единых ценностей и норм поведения. Б. Андерсон [4] в своих работах развил подход к пониманию макросоциальной идентичности как «воображаемого конструкта», что открыло возможность вести дискуссию о составных элементах образа общности, таких как система представлений о коллективном прошлом, общем будущем, «значимых других» в лице представителей иных сообществ и т. д. Таким образом, был дан стимул развитию научной дискуссии на тему социальных маркеров, позволяющих отграничить общности между собой в символическом и дискурсивном пространстве, а также закрепить их устойчивость.
Обращаясь к вопросу о комплексном осмыслении данной темы в последние годы, необходимо отметить, что она разрабатывалась преимущественно косвенным образом, за счет изучения отдельных аспектов в ключе освещения более широких по объему или смежных вопросов. В исследованиях И.З. Герштейна и М.А. Казакова [5], В.В. Регнацкого [6] тема получила частичное освещение в контексте разработки вопроса о моделях национально-государственной идентичности, в работах В.С. Комаровского [7] - в рамках исследования угроз для ее стабильности модели самоопределения россиян. В.Ю. Рубцова [8] и Д.И. Гигаури [9] раскрыли интересующий нас вопрос в рамках изучения государственной политики памяти.
Как отмечается в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. [10] , в настоящее время в сфере развития межнациональных и межрелигиозных отношений в Российской Федерации все большую актуальность обретают проблемы, связанные с распространением различных форм экстремизма, включая концепции, основывающиеся на утверждении этнической или религиозной исключительности. Однако сегодня ситуацию в сфере выстраивания государственной политики идентичности усугубляют как сбои в работе механизмов социализации мигрантов из стран ближнего зарубежья, в массовом порядке вовлекаемых в обслуживание различных секторов отечественной экономики, так и тревожно высокий уровень социально-экономического расслоения общества, увеличивающийся разрыв в качестве жизни между различными субъектами Федерации. Ощутимое влияние на ситуацию также оказывает широкое распространение продукции глобализирующейся массовой культуры, способствующее возникновению принципиально новых форм идентичности. При этом речь идет не только о проникновении в символическое пространство России внешних - условно «вестернизированных» - систем самоидентификации. Большой популярностью пользуются, в частности, модели идентичности, базирующиеся на концепциях панисламизма и пантюркизма.
Перечисленные выше факторы риска провоцируют заинтересованность со стороны государства в совершенствовании системы воспроизводства национально-государственной идентичности россиян. Однако выработке соответствующих решений в обязательном порядке должна предшествовать оценка текущего состояния национально-государственной идентичности с позиций организации государственного управления в данной сфере деятельности.
Анализ баз нормативно-правовых документов «Консультант Плюс», «Гарант» и «Консорциум Кодекс», а также контента официального сайта Президента Российской Федерации показал, что в рамках действующего законодательства и документов стратегического планирования политика идентичности на уровне системы публичной власти регулируется на основе государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики» (в рамках подпрограммы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России») [11]. В случае отдельных национальных регионов (таких как Республика Татарстан) действуют также нормативно-правовые акты уровня субъекта Федерации, направленные на обеспечение сохранения идентичности титульной нации данной территории, поддержание межэтнического и межконфессионального мира и противодействие экстремизму на национальной или религиозной почве.
В качестве официальной цели реализации подпрограммы на федеральном уровне указано обеспечение укрепление гражданского единства и самосознания россиян, а также сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации . Методы ее достижения сводятся к проведению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и этнокультурное развитие народов России. Ресурсная база подпрограммы на период 2021–2025 гг. предполагает ежегодное выделение финансирования в размере около 437 млн руб. За счет этих средств ответственный исполнитель подпрограммы (Федеральное агентство по делам национальностей) должен обеспечить к 2025 г. увеличение численности участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства до 5,2 млн человек (3,5 % от населения РФ на начало 2021 г.). Количество участников акций, направленных на этнокультурное развитие народов России, должно вырасти до 3,5 млн человек (2,4 % от общей численности населения РФ) [12].
По нашему мнению, с точки зрения стратегического управления подпрограмму характеризует наличие существенных лакун при отсутствии блока, посвященного потенциалу развития – скрытым либо нереализованным ресурсам, пригодным для дальнейшего выстраивания общероссийской национально-государственной идентичности гражданского конвенционального типа (не игнорирующей этнические и региональные особенности различных сегментов российского общества, а наоборот, интегрирующей их). Отдельно следует отметить, что в рамках анализа существующих угроз, который присутствует в указанном нормативном документе, причины их генезиса во многом сводятся лишь к воздействию внешних акторов и распространению деструктивной пропаганды.
Равным образом остается неосвещенным вопрос о недостатках в рамках реализуемой прежде политики идентичности или выстроенной ранее системы управления ею. Цель подпрограммы формализована, однако выбор индикаторов для измерения степени ее достижения является дискуссионным: например, упомянутая среди них численность участников профильных мероприятий не коррелируется напрямую с укреплением национально-государственной идентичности. Данный показатель может регулироваться при помощи использования административного ресурса, придания мероприятиям развлекательного характера и т. д.
Обращает на себя внимание то, что в подпрограмме в качестве формы работы указаны лишь массовые мероприятия. Последнее подразумевает, что деятельность государства как актора политики идентичности данном случае сводится к материальной поддержке и популяризации проектов частных лиц, коммерческих структур и общественных организаций.
Вопросы также вызывают отдельные базовые понятия, используемые в подпрограмме. Такие термины, как «культурный (цивилизационный) код», не имеют однозначной трактовки, распространены преимущественно в публицистике и не имеют научного определения. Неоднозначно можно интерпретировать и понятие «традиционные российские духовно-нравственные ценности». В данном случае необходимо учитывать, что устоявшиеся системы ценностей и формируемые ими модели поведения представителей различных этносов и регионов России могут существенным образом отличаться. В частности, традиции многих народов Северного Кавказа в значительной степени обусловлены влиянием традиционного ислама и законсервированных элементов родоплеменного строя (в таких регионах, как Чечня и Ингушетия, например, до сих пор сохраняются элементы тейповой организации). Как следствие, их представления о традиционных нормах и ценностях существенным образом отличаются от жителей ряда иных регионов (включая даже республики с преобладанием мусульманского населения, такие как Татарстан и Башкортостан).
В то же время закономерным и оправданным представляется то, что в подпрограмме имеет место акцент на позиционировании перед целевой аудиторией прошлого и настоящего России и населяющих ее народов. Однако игнорируется вопрос о таких важных факторах формирования и воспроизводства идентичности, как образ будущего и образ «значимого другого».
Таким образом, до конца не разрешенным остается вопрос об устранении противоречий, неизбежно возникающих при одновременном выполнении во многом разнонаправленных задач – укрепления общей гражданской идентичности и развития этнокультукрных моделей самоопределения . Более того, возникновение упомянутых противоречий является неизбежным. Как известно, еще классики идентитарных исследований (в частности, Г. Тэджфел и Дж. Тернер) утверждают: формирование идентичности невозможно в отсутствие двух факторов – ингруппового фаворитизма (системы представлений о превосходстве собственной общности над прочими) и ауг-групповой дискриминации (восприятия другой модели самоопределения как менее престижной). За счет этого развитие одного элемента идентичности неизбежно осуществляется в ущерб другому. Описанное противоречие, которое, безусловно, прослеживается, в государственной национальной политике РФ, не является неустранимым в долгосрочной перспективе. Однако в рамках рассматриваемых документов не сформулированы общие подходы к поиску некоего знаменателя, способствующему смягчению данной проблемы на сегодняшнем этапе эволюции российского федерализма и государственной национальной политики Российской Федерации.
В программе и подпрограмме, несмотря на большое внимание авторов к вопросу об использовании истории как инструмента формирования идентичности, также весьма расплывчато выражена концепция примирения конфликтующих в российском общественно-политическом дискурсе версий мемориального нарратива (в том числе противоречий между предполагаемым консолидирующим общероссийским образом прошлого и его этнорегиональными антиподами), расхождения между которыми способствуют консервации конфликтов внутри общества и размыванию общей гражданской идентичности.
В заключение мы можем признать, что в настоящее время в России до конца не сложилась полномасштабная, стратегически выверенная система управления формированием национально-государственной идентичности. На сегодняшний день государственную политику иден- тичности характеризует целый комплекс недостатков в плане оценки текущего состояния предмета управления, постановки задач, выбора методов и индикаторов эффективности достижения выбранных целей. Она ориентирована на воспроизводство лишь части присутствующих в российском массовом сознании и преимущественно реминисцентных по своей сути моделей коллективного самоопределения. На наш взгляд, перспективы дальнейшего изучения заявленного вопроса заключаются в научной проработке системы рекомендаций по поводу коррекции действующей модели стратегического управления формированием национально-государственной идентичности, как с учетом выявленных недостатков, так и в ракурсе несомненно существующего управленческого потенциала действующей Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации.
Список литературы К вопросу о совершенствовании политики идентичности в контексте реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
- Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996. 344 с.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М., 1995. 323 с.
- Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. 2000. № 1. С. 47–62.
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышление об истоках и распространении национализма. М., 2001. 288 с.
- Герштейн И.З., Казаков М.А. Национально-государственная идентичность: историческая эволюция моделей и современная типология // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2016. № 6. С. 36–42.
- Регнацкий В.В. Национально-государственная идентичность в России: теоретическая модель изучения // Среднерусский вестник общественных наук. 2015. № 1. С. 39–46.
- Комаровский В.С. Бедность и неравенство как вызовы национально-государственной идентичности и формированию гражданской нации России // Власть. 2017. Т. 25, № 1. С. 5–11.
- Рубцова В.Ю. Политика памяти в практике конструирования локальной идентичности // Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения. 2017. Т. 1, № 4. С. 450–455.
- Гигаури Д.И. Политика памяти в практике социального конструирования политической идентичности // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 10-1. С. 59–64.
- О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (с изменениями на 6 декабря 2018 г.) [Электронный ресурс] // Кодекс: электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: http://docs.cntd.ru/document/902387360 (дата обращения: 10.10.2021).
- Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1532 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=102420710&page=1&rdk=14#I0 (дата обращения: 10.10.2021).
- Там же.