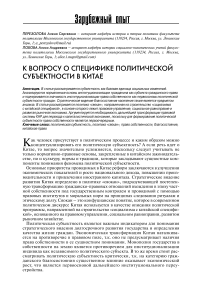К вопросу о специфике политической субъектности в Китае
Автор: Перезолова Алена Сергеевна, Лобова Алиса Андреевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 8, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается субъектность как базовая единица социальных изменений. Анализируются нормативные основы институционализации гражданина как субъекта гражданского права и подчеркивается значимость институционализации права собственности как первоосновы политической субъектности граждан. Стратегическое видение благосостояния населения также является предметом анализа. В статье рассматривается политика «сяокан», направленная на строительство «социализма с китайской спецификой», в основе которого лежит правовое управление, социальное равноправие и развитая рыночная экономика. Аргументируется необходимость дальнейшей трансформации правовой системы КНР для перехода к капиталистической экономике, поскольку для формирования политической субъектности право собственности является первоочередным.
Политическая субъектность, политика "сяокан", право собственности, благосостояние, китайское право
Короткий адрес: https://sciup.org/170168507
IDR: 170168507
Текст научной статьи К вопросу о специфике политической субъектности в Китае
К ак человек присутствует в политическом процессе и каким образом можно концептуализировать его политическую субъектность? А если речь идет о Китае, то вопрос значительно усложняется, поскольку следует учитывать не только нормативно-правовые основы, закрепленные в китайском законодательстве, но и культуру, нормы и традиции, которые закладывают сущностные компоненты понимания феномена политической субъектности.
Основные приоритеты проводимых в Китае реформ заключаются в улучшении экономических показателей и росте национального дохода, повышении производительности и привлечении иностранного капитала. Стратегическое видение развития Китая определено в политике «сяокан», подразумевающей постепенную трансформацию гражданско-правовых отношений вхождения в эпоху частной собственности под государственным контролем и проводимой с помощью правовых институтов и моральных норм на принципах следования ритуалам и этическому долгу. Сяокан – это конфуцианское понятие, которое в современном политическом дискурсе Китая используется в качестве описания политической программы, направленной на строительство «социализма с китайской спецификой», основанного на правовом управлении, социальном равноправии, развитом рыночном хозяйстве.
Политическая субъектность является важным индикатором для понимания стратегического видения долгосрочного развития государства и определения качества жизни граждан. Экономическая трансформация Китая наталкивается на противоречие в правовом поле, т.к. оно не предусматривает наличия права собственности в ее сущностном понимании. Монополия государства в собственности на землю является противоречием для институционализации индивида как независимого политического субъекта. В то же время стоит рассматривать политическую субъектность критически, т.к. на категорию гражданского благосостояния существенное влияние оказывает экономический рост, что является первоосновой дальнейшего институционального переустройства.
Отношения собственности определяют социальную структуру общества, его политический контекст, гражданско-правовую основу, организацию хозяйственного управления, оказывают решающее влияние на ценностные ориентации и установки, а также на стратегическое планирование. В вопросах приватизации Китай и Россия сталкиваются во многом со схожими проблемами, разница лишь в подходах к решению данных вопросов. Современные российские исследователи все чаще обращают взор на китайский опыт, оценивая его положительно.
В центре исследования лежит рассмотрение трансформации плановой экономики и политики Китая во взаимосвязи с трансформацией понятия субъектности в политическом и правовом контексте. Тем не менее в самóй Поднебесной процесс приватизации, которая началась почти 30 лет назад, еще не завершен. Сегодня в Китае нарастает дискуссия о том, каким должно быть оптимальное сочетание в экономике государственной, частной собственности и собственности в иностранном владении, но очевидно одно: масштабное перераспределение государственной собственности в пользу частного бизнеса в КНР не произошло, и именно это стало основой формирования конкуренции между различными формами собственности [Семенов 2014].
Право собственности является предметом рассмотрения настоящего исследования, т.к. в Китае столь основополагающий базис гражданско-правовых отношений имеет уникальные особенности. Согласно гражданскому праву, в Китае существует право владения и право пользования. Законом разрешены следующие формы собственности: частная, государственная и коллективная, причем каждый из видов собственности занимает равное положение. Уникальной особенностью является право собственности государства на землю, а право владения недвижимостью (домом) ограничивается периодом в 70 лет1. Следует отметить, что пользование землей, согласно китайскому законодательству, также не приравнивается к праву собственности. А в деревенской зоне возможно коллективное пользование землей.
Оценивая результаты приватизации прошедших лет в Китае, исследователи приходят к различным выводам. Китайские эксперты Liu , Sun и Woo отмечают, что процесс преобразований постепенен, но устойчив и характеризуется сочетанием полных и частичных мер приватизации при решающей роли местных органов власти [Liu, Sun, Woo 2016: 33]. В свою очередь, Jie Gan и Chenggang Xu указывают на различия между Россией и Китаем, которые обусловили специфику и успех реформ разгосударствления последнего. В отличие от других стран, где приватизация осуществлялась центральным правительством в начале 1990-х, китайское правительство пыталось избежать этого, и приватизация была отсрочена больше чем на десятилетие. В условиях политических и идеологических ограничений процесс приватизации в Китае был начат местными администрациями и носил децентрализованный характер. К этому моменту в Китае уже существовали устоявшиеся рынки и развитая частная собственность. С другой стороны, исследователи отмечают длительное влияние правительства на приватизированные фирмы, что тормозит их работу до сих пор [Jie Gan и Chenggang Xu 2010: 4]. Еще одной проблемой, возникшей в результате приватизации, стало обеспечение социальных нужд рабочих на предприятиях. При разгосударствлении основная тяжесть расходов по социальным выплатам ложится именно на частные компании, что подрывает экономическую роль государства и затрудняет приватизацию в целом [Lin Cyril 2000: 24].
Понятие «частная собственность», так же как и тесно связанное с ним понятие
«средний класс», содержательно глубже, чем просто обладание капиталом. Оно означает обладание тем личным социальным пространством, за черту которого заходить никому, в т.ч. и государству, нельзя, т.е. строгую границу личных свобод. Эта граница в правовом государстве табуирована всем комплексом его элементов. Свободная от государства частная собственность является социальноэкономическим фундаментом демократии, гарантией разделения собственности и власти.
Правительство КНР выдвинуло концепцию построения к 2020 г. социалистического гармоничного общества «малого благоденствия», или «среднезажиточного общества» (ФЖ1±£ «сяокан шэхуэй»). Определяя основные цели и задачи строительства гармоничного социалистического общества, китайские лидеры выделяют такие, как «дальнейшее совершенствование социалистической демократической правовой системы; внедрение основного принципа управления страной согласно закону; гарантия уважения к правам и интересам человека; уменьшение разрыва между деревней и городом; рациональное распределение доходов».
Сам термин «сяокан» не является новым. Как и большинство понятий современного политического языка Китая, сяокан связан с традициями философской и социально-политической мысли Китая. На протяжении истории это понятие обрастало многочисленными толкованиями и приобретало новые смысловые оттенки. Впервые этот термин упоминается в древних конфуцианских канонах «Ши цзин» и «Ли цзи». В целом, содержание понятия общества «малого благоденствия» хорошо прослеживается на примере противопоставления обществу «великого единения». В древности, столь часто идеализируемой китайцами, царила эпоха «великого единения» («датун») как равенства и принадлежности всего всем. Однако со временем Поднебесная из общественного достояния перешла в «собственность» отдельных семей. Общество перестало быть монолитным целым, имущественное неравенство разделило людей, и только основы иерархических моральных отношений удерживают их от недостойных поступков. Таким образом, сяокан представляет человеческое общество, входящее в эпоху частной собственности, в котором государство, опирающееся на ритуал и этический долг, поддерживает порядок с помощью правовых институтов и моральных норм1.
В современных официальных переводах по-прежнему делается упор на экономическую трактовку термина «сяокан», при этом концепция оценивается с позиций реформ 1970–80-х гг., где датун обозначает абсолютное общественное процветание как достижение светлого коммунизма, а сяокан – как относительное на уровне среднеразвитых стран. При этом концепция продолжает расширяться, включая все больше новых аспектов отнюдь не экономического характера.
Ярким примером реализации политики «сяокан» может служить принятие программы «гунминь даодэ» (^ВЖ^ Программа построения гражданской нравственности) в 2002 г.2 Как представляется, программа подразумевает воспитание законопослушных граждан в духе патриотизма и нравственного коллективизма в рамках движения к «сяокан», ссылаясь на конфуцианские постулаты морали и добродетели.
Нравственный коллективизм и идеи общественного процветания становятся векторными направлениями реализации социальной политики Китая, однако в нормативном отношении они не закрепляют правовые основы собственности гражданина как субъекта. На 6-м пленуме ЦК 16-го созыва социальная гармония провозглашалась основой китайского социализма1. В мае 2014 г. впервые был оглашен новый экономический долгосрочный план «Новая норма». В число его приоритетов входят: качество экономической структуры, баланс между отраслями и регионами, развитие национальной и региональной экономики, повышение эффективности капиталовложений, энергоемкость, защита окружающей среды от вредных выбросов. Центральными вопросами являются внутренний рынок и китайское население с его потребностями и запросами. Принципы «Новой нормы» были положены в основу принятого 13-го 5-летнего плана КНР (2016–2020 гг.), девизом которого является «согласованное развитие» – как экономическое, так и социальное. Взаимное дополнение и обогащение позволят окончательно победить нищету, которая еще так актуальна для миллионов китайцев.
Так, в последнее десятилетие понятие «среднезажиточное общество» дополнилось социальной составляющей, что свидетельствует о качественных изменениях в стратегии политического и культурного развития КНР. С 2015 г. сильно облегчилась жизнь крестьянства – им начали выдавать удостоверения на долгосрочное пользование землей. Эта мера призвана сократить беспредел чиновников, часто отбирающих наделы и перепродающих застройщикам. Мигрантам стало проще получать прописку в городах численностью менее 5 млн чел., что гарантирует им все социальные блага и бесплатное медицинское обслуживание.
Все чаще поднимается вопрос о необходимости установления демократических механизмов и институтов, способствующих проведению приватизации в Китае, дабы избежать коррупции на местах. Beck и Levine указывают, что формирование юридической традиции важно для финансового развития в каждой стране [Beck, Levine 2004: 37]. Однако в Китае правовая система в области взаимоотношений власти и собственности остается одной из самых неопределенных [Коростиков 2015: 52]. С другой стороны, в случае с Китаем институционализация не обязательно гарантирует экономический рост. Именно человеческие отношения и доверие (вместо формализованного права собственности) играли более важную роль в Китае [Weitzman, Chenggang Xu 1994: 137].
Таким образом, отношения собственности определяют социальную структуру общества. В Китае существует право владения и право пользования. Право распоряжения занимает важное место в понятии «частная собственность». Тесно связанными с понятием собственности являются понятие «средний класс» и достижение общественного благосостояния, которые определены стратегическими ориентирами в Китае.
Общественная трансформация монолитности общества в Китае и экономический подъем являются объективным запросом для трансформации гражданско-правовых основ. Систематичное стратегическое планирование позволило государству составить план КНР (2016–2020 гг.) под девизом «согласованного развития» – как экономического, так и социального. Отметим, что социальное развитие не всегда является очевидным последствием экономического, что подтверждается опытом ряда азиатских стран, в т.ч. и Китая, однако остается необходимым условием формирования стабильного социального роста. Политическая субъектность тесно связана с правом собственности, однако в случае Китая право собственности ограничено государством, что является следствием единения без унификации. В политическом отношении право распоряжения является сдерживающим фактором для индивидуализации. Позитивным решением была передача механизмов осуществления разгосударствления собственности в руки городских администраций, что позволило осуществлять приватизацию с учетом особенностей регионов. Проводить новую политику местных чиновников побуждали ограничения в бюджете и повышение рыночной конкуренции [Liu, Sun, Woo 2016].
Наиболее успешным методом приватизации стал выкуп контрольного пакета акций компании ее управляющими и служащими [Jie Gan, Chenggang Xu 2010: 23], что стимулировало заинтересованность крупных акционеров [Jie Gan 2009: 587]. Наличие развитой капиталистической экономики и финансовых институтов стало основой проведения приватизации. Постепенный характер преобразований позволил Китаю избежать депрессии, наблюдаемой в странах СНГ. С другой стороны, сильное присутствие партии и большая социальная ответственность, возложенная правительством на приватизированные организации, усложняли процесс. Характерным для китайского общества является нравственный коллективизм и ориентация на общественное процветание, что становится вектором стратегического развития Китая и хорошим примером для России.
Список литературы К вопросу о специфике политической субъектности в Китае
- Коростиков М.Ю. 2015. Власть и собственность в Китае. -Сравнительная политика. № 6. С. 50-65
- Семенов А.И. 2014. Приватизация государственных предприятий и конкурентоспособность национальной инновационной системы России. -Современные научные исследования и инновации. № 5. Доступ: http://web.snauka.ru/issues/2014/05/34125 (проверено 28.05.2016)
- Beck Th., Levine R. 2004. Legal Institutions and Financial Development. NBER Working Papers. 47 p
- Guy S. Liu, Pei Sun, and Wing Thye Woo. 2016. The Political Economy of Chinese-style Privatization: Motives and Constraints. -World Development. Vol. 34. No. 12. P. 2016-2033
- Jie Gan. 2009. Privatization in China: Experiences and Lessons. The Milken Institute Series on Financial Innovation and Economic Growth. Vol. 8. P. 581-592
- Jie Gan, Chenggang Xu. 2010. What Makes Privatization Work? The Case of China. Working Paper No. E-2010-06-006. School of Economics, Peking University. 143 p
- Lin Cyril. 2000. Corporate Governance of State-Owned Enterprises in China. Working paper. Asian Development Bank. 47 p
- Weitzman M.L., Chenggang Xu. 1994. Chinese Township-Village Enterprises as Vaguely Defined Cooperatives. -Journal of Comparative Economics. Vol. 18. P. 121-145