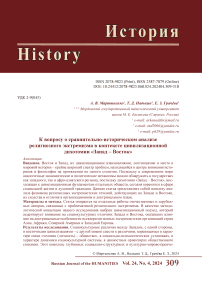К вопросу о сравнительно-историческом анализе религиозного экстремизма в контексте цивилизационной дихотомии «Запад – Восток»
Автор: Мартыненко А.В., Надькин Т.Д., Грачва Е.З.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. Восток и Запад, их цивилизационное взаимовлияние, соотношение и место в мировой истории - крайне широкий спектр проблем, находящийся в центре внимания историков и философов на протяжении не одного столетия. Поскольку в современном мире аналогичные экономические и политические механизмы можно обнаружить в государствах как западного, так и афро-азиатского региона, постольку дихотомия «Запад - Восток», восходящая к цивилизационным фундаментам отдельных обществ, сегодня коренится в сфере социальной жизни и духовной традиции. Данная статья представляет собой попытку анализа феномена религиозных экстремистских течений, действующих на Западе и Востоке, их сходства и отличия в организационном и доктринальном плане.
Цивилизации запада и востока, религиозный экстремизм, салафиты, ваххабиты, тоталитарные секты
Короткий адрес: https://sciup.org/147247080
IDR: 147247080 | УДК: 2-9(045) | DOI: 10.24412/2078-9823.068.024.202404.309-318
Текст научной статьи К вопросу о сравнительно-историческом анализе религиозного экстремизма в контексте цивилизационной дихотомии «Запад – Восток»
Восток и Запад, их взаимовлияние, соотношение и место в мировой истории – крайне широкий спектр проблем, находящийся в центре внимания историков и философов на протяжении не одного столетия. Смысл социокультурной проблемы «Запад – Вос- ток» как сосуществования на исторической арене разнотипных форм культурного, социально-экономического и политического развития емко и образно выражен в знаменитых стихотворных строках «железного Редьярда» – английского писателя и поэта Р. Киплинга о том, что Запад есть Запад,
Восток есть Восток, и с мест они не сойдут... Поскольку в современном мире аналогичные экономические и политические механизмы можно обнаружить в государствах как западного, так и афро-азиатского региона, постольку дихотомия «Запад – Восток», восходящая к цивилизационным фундаментам отдельных обществ, сегодня коренится в сфере социальной жизни и духовной традиции. Данная статья представляет собой попытку анализа религиозных экстремистских течений в контексте цивилизационной дихотомии «Запад – Восток».
Материалы и методы
Статья опирается на отдельные работы отечественных и зарубежных авторов, связанные с проблематикой религиозного экстремизма. В качестве методологической концепции нашего исследования выбран цивилизационный подход, который акцентирует внимание на социокультурных отличиях Запада и Востока, оказавших влияние на доктринальные особенности псевдоре-лигиозных экстремистских организаций стран Азии, Африки, Северной Америки и Западной Европы.
Результаты исследования
Социокультурные различия между Западом, с одной стороны, и восточными цивилизациями – с другой в обобщенном виде можно свести к следующему.
Прежде всего это различия, коренящиеся в характере связи «человек (личность) – общество». Для западного социума характерен ярко выраженный антропологизм: человек признается высшей ценностью и мерой всех вещей; утверждается автономность личности; главной задачей государства объявляется обеспечение условий жизнедеятельности «атомизированного человека». Эти идеи сформировались еще в эпоху Возрождения, а затем были развиты рационалистами XVII–XIX вв. – социальными физиками, просветителями, идеологами классического либерализма). На
Востоке же приоритет отдается, во-первых, обществу, коллективу и коллективному существованию личности, автономность которой либо отсутствует, либо слаба; во-вторых, государству, представляющему собой всевластный политический, экономический, идеологический институт.
Кроме того, это существенные различия в социально-психологических установках. Если на Западе культивируется активное отношение к сущему, постоянная неудовлетворенность настоящим, то на Востоке преобладает созерцательное отношение к миру, в частности представление о том, что новое и старое должны уравновешивать друг друга (в качестве примера можно привести даосские концепции ву-вэй и фэншуй).
Можно также говорить о различиях в ценностных ориентирах общественного сознания. Запад рационалистичен, причем имманентно присущий западной цивилизации рационализм распространяется на все сферы общественного сознания, принимая самые разнообразные формы – от технологического оптимизма и веры в могущество научно-технического прогресса до потребительского отношения к жизни, в основе которого лежит абсолютизация материального благополучия как высшего критерия индивидуального успеха. На Востоке в качестве базовых выступают ценностные установки традиционных религий – ислама, индуизма, буддизма, конфуцианства, даосизма, синто.
Есть различия и в характере динамики социокультурной системы. На Западе происходит быстрая, нередко скачкообразная смена культур; новое отрицает старое в самой сущности явлений и процессов культуры (взять хотя бы молодежную контркультуру 1960-х гг.). На Востоке в гораздо большей степени проявляются относительная стабильность, устойчивость духовных основ общества. Культурные традиции пе- редаются от поколения к поколению. Так, скажем, модернизация Японии, приведшая к «японскому экономическому чуду», не подорвала позиций традиционных для японцев конфуцианских, буддийских и синтоистских ценностей.
Именно этот комплекс глубинных социально-структурных и культурно-мировоззренческих различий между западными и восточными обществами позволяет говорить о наличии обособленных и во многом чужеродных по отношению друг к другу типов общественного устройства, в основе которых лежат порой взаимоисключающие тенденции. Ставка западной цивилизации на материальный успех в качестве генеральной установки приходит в противоречие с пусть не всегда последовательной, но устойчивой во времени ориентацией на строгий моральный стандарт, свойственный восточному человеку, опирающийся на древние религиозно-этические системы. С одной стороны, мы видим ультрарационализм, потребительский индивидуализм, фактическую бездуховность, словами О. Шпенглера, «метафизически истощенную почву Запада» [12, с. 131], которые в последние годы усугубились моральным разложением в виде ЛГБТ-повестки, своеобразным символом которой уже стали Олимпийские игры 2024 г. в Париже. С другой стороны, мы видим иерархизм, относительную статичность всего общественного уклада и культ духовных ценностных образцов на Востоке. Подобная несовместимость цивилизационных фундаментов во многом объясняет, что, несмотря на тенденцию к постоянному расширению своего влияния, западное общество, словами А. Дж. Тойнби, «так и не добилось доминирующего положения в мире во всех трех его планах – экономическом, политическом и культурном» [10, с. 34]. Напротив, стремление государств афро-азиатского мира ориентироваться более на собственные ци- вилизационные и культурно-религиозные истоки, нежели на вестернизированные обезличенные эталоны развития, породило, образно говоря, «сопротивление Востока Западу», которое нередко принимает крайние и радикальные формы.
В абсолютном большинстве религиозных систем, наряду с их высоким гуманистическим потенциалом, породившим богатейший пласт человеческой культуры (христианской, исламской, буддийской, конфуцианской и др.), всегда встречались крайние трактовки, на основе которых в разные эпохи возникали экстремистские и террористические сообщества. Каждое из таких сообществ в своих жестоких и преступных деяниях неизменно апеллирует к той или иной религиозной традиции, часто позиционируя себя как единственно истинных последователей веры.
Многочисленными примерами экстремизма на основе крайних трактовок тех или иных вероучений отмечена религиозная история, как на Востоке, так и на Западе. Так, экстремистские и террористические сообщества возникали внутри большинства религиозных систем Азии. Это, например, коммуналисты в индуизме (один из которых совершил смертельное покушение на великого Махатму Ганди) [1]. Это вооруженные сепаратисты-сикхи, убивающие ради отделения от Индии Пенджаба [7, с. 70–72]. Это тайные братства в даосизме, поднимавшие разрушительные восстания в Китае с древних времен до конца ХIХ столетия (так называемое «боксерское восстание»). Даже, казалось бы, имманентно миролюбивый буддизм с его ненасильственными мотивами в конце ХХ в. стал основой для террористической секты «Аум Синрикё», совершившей в 1995 г. атаку в токийском метро с помощью боевого отравляющего вещества зарин [9; 13, p. 46]. Японская национальная религия синто стала идейной основой для японского милитаризма, приведшего эту страну к участию в развязывании Второй мировой войны, а затем к трагедии Хиросимы и Нагасаки и капитуляции перед странами Антигитлеровской коалиции.
Однако приходится признать, что наибольшие масштабы экстремистские и террористические группы приобрели в границах исламской цивилизации, давая искаженную и ригористическую трактовку исламской традиции, нарочито отказываясь от гуманистического потенциала этой великой религии. Такие группы и течения возникали в границах исламской уммы и в Средние века: достаточно вспомнить шиитское (низаритское) братство тайных убийц, известное под европейским искаженным названием «ассасины».
То движение, которое, прикрываясь мусульманской риторикой, представляет собой глобальную террористическую угрозу для современного мира, зародилось в Аравии в XVIII в. Речь идет о салафийя, более известном не только в публицистической, но даже в научной литературе под некорректным названием «ваххабизм» [3, с. 7–15; 15, с. I–IX]. Сегодня салафийя крайне неоднороден и представлен как в виде консервативного и признанного мировым сообществом политического режима Королевства Саудовская Аравия [14], так и многочисленными террористическими организациями, включая «Аль-Каиду» [18], «Боко Харам» [8; 16; 20] и пресловутое «Исламское государство» [2; 22, p. 298–301].
Сущностью салафитской доктрины, независимо от степени ее радикализма, является возвращение к «чистоте» изначального ислама – ислама при жизни пророка Мухаммада и, соответственно, очищение его от всех норм, установлений и обрядов, которые появились в исламе позднее. Данное экстремистское течение выстраивает свои доктринальные установки и террористические практики на основе ригористической, крайней и откровенно извращенной трактовки исламской традиции [4].
Французский философ Ж. Корм в качестве важной причины усиления радикальных течений в мировой исламской умме называет кризис арабского национализма и даже военные победы Государства Израиль в ходе ближневосточного конфликта: «В арабских странах, – пишет он, – получивших независимость в ХХ веке, многочисленные военные государственные перевороты приведут к националистическим диктатурам, создаваемым в сложном и весьма неспокойном контексте холодной войны и рождения Израиля. Цепочка военных арабских поражений подорвала уважение к различным видам арабского национализма, что вызвало исламистский протест, в том числе и в форме различных типов зарождающегося терроризма, который приобретает исламскую окраску начиная с афганской войны» [5, с. 91].
Представители традиционного ислама часто обижаются на термин «мусульманский терроризм», утверждая, что ваххабиты – это не мусульмане, но злодеи, прикрывающие исламом свои преступные деяния. Дело в том, что и ваххабиты не считают остальных мусульман мира таковыми, применяя к ним пренебрежительный эпитет мунафиков, т. е. лицемеров. В связи с этим современный российский исламовед Д. А. Шагавиев отмечает: «“Аль-Фирка ан-наджийя” означает спасшуюся группу. Подобное высказывание основано на риваяте о том, что умма разделится на 73 группы, 72 из них будут заблудшими и лишь одна из них спасется (“фиркатун наджийатун”). Все мазхабы и религиозные группы в исламе, и прежде всего ахль ас-Сунна (сунниты), утверждают, что именно они являются спасшейся группой» [11, с. 10]. Добавим, что точно так же к однозначно «спасшейся группе» ревнителей якобы истинной и якобы единственно вер- но трактуемой исламской традиции относят себя и ваххабиты/салафиты.
Спецификой отдельных тоталитарных сект западного происхождения является то, что в них агрессия направлена «внутрь себя». Речь идет о сектах, которые фактически самоуничтожились путем массового самоубийства. Одним из примеров является секта «Небесные врата», зловещий финал которой описывается в изданной в США «Энциклопедии новых религиозных движений» следующим образом: «Когда мир снова услышал об Эпплуайте (лидере указанной секты. – А. М. , Т. Н. , Е. Г. ) и его последователях, они все были мертвы. 26 марта 1997 года тела тридцати девяти мужчин и женщин были найдены в большом доме недалеко от Сан-Диего. Все были одеты в своего рода униформу со знаками, указывающими на то, что они были членами экипажа “Команды высадки”… Эпплуайт, вдохновленный интенсивным интересом к проходящей комете Хейла – Боппа, пришел к выводу, что долгожданный космический корабль приближается вслед за кометой. Поэтому он созвал своих последователей и сказал им, что настало время, и каждый покорно подготовил свою собственную смерть» [13, p. 265].
Еще более жутким примером стало массовое самоубийство членов секты «Храм народов», совершенное на территории южноамериканского государства Гайана в 1978 г. по приказу их лидера, проповедника Джима Джонса. Исследователи истории «Храма народов» Тим Рейтермэн и Джон Якобс посвятили этой трагедии следующие эмоциональные строки: «Палач инициировал акт столь чудовищного насилия, что трагедия Джонстауна стала символом невыразимого зла. Одно лишь восприятие этого события мировой общественностью доказывает, что заключительный акт Джонса – это не более, чем мошенничество» [19, p. 765].
С отношением западных сект к западной религиозной традиции все гораздо сложнее и неоднозначнее, нежели в ситуации с салафитским экстремизмом. Прежде всего бросается в глаза непримиримое отрицание христианства значительным количеством экстремистских сект Запада. В качестве альтернативы предлагается откровенный сатанизм («банда Мэнсона») или эскапистские рассуждения про контакт с инопланетянами и путешествия в другие миры («Небесные врата», «Орден храма солнца» [17]). Хотя сразу отметим, что и извращенец-психопат Мэнсон, и психически больной Эпплуайт из «Небесных врат» в своих откровенно бредовых проповедях эксплуатировали христианские образы.
С другой стороны, небольшая часть террористических сект возникла внутри протестантизма. Ветвь Давидова, устроившая настоящее сражение со спецподразделениями ФБР [13, p. 79–80], отделилась от адвентистов седьмого дня. Упомянутая выше секта «Храм народов», совершившая массовое самоубийство в Южной Америке, вербовалась из баптистов и пятидесятников. К радикальному толкованию протестантских идей близка и печально известная угандийская Господня армия сопротивления, которая действует до настоящего времени и в значительной степени формируется из похищенных детей [6; 21, p. 10]. Даже лидер необуддийской террористической секты «Аум Синрикё» Сёко Асахара апеллировал к эсхатологическому пророчеству христианского откровения от Иоанна, назвав себя воплощением и фактом второго пришествия Христа [13, p. 46].
Таким образом, западные экстремистские секты в своих мировоззренческих системах либо искажают христианские ценности, что делает возможным аналогию с отношением ваххабитов к ценностям исламским, либо агрессивно отвергают христианство, что является спецификой именно этой разновидности религиозного экстремизма.
Обсуждение и заключение
В начале третьего десятилетия XXI в. человечество вступило в эпоху глобального слома миропорядка. Беспрецедентно унизительное давление, которое в 1990-е гг. в отношении России оказывал коллективный Запад, воспринявший распад СССР как геополитическую победу, привело к своеобразному «эффекту сжатой пружины». С начала 2000-х гг. Россия под руководством Президента В. В. Путина стала проводить всё более независимую политику. Ее основные вехи хорошо известны: Мюнхенская речь российского Президента 2007 г.; принуждение к миру Грузии, совершившей военную агрессию против Южной Осетии в 2008 г.; «Крымская весна» и воссоединение Крыма с Россией 2014 г. и, наконец, начавшаяся 24 февраля 2022 г. специальная военная операция. Сегодня Россия ведет вооруженную борьбу за суверенитет и национальные интересы, одновременно укрепляя позиции в формирующемся многополярном мире, в котором гегемония США всё более подвер- гается сомнению многими акторами международных отношений.
В этих непростых условиях тема псев-дорелигиозного экстремизма для нашей страны, к сожалению, не только не снята с повестки дня, но и приобрела новое тревожное звучание. Во-первых, несмотря на очевидные успехи и победы российских силовиков в борьбе с салафитским (ваххабитским) террористическим подпольем, эта угроза вновь заявила о себе в виде кровавых и жестоких терактов 2024 г. – в подмосковном «Крокус Сити Холле» и в Дагестане. Во-вторых, появилась опасная тенденция к смычке салафитского терроризма с терроризмом украинских спецслужб на территории РФ.
Эффективность борьбы нашего государства и нашего общества с этим социальным злом зависит от многих составляющих и включает в себя, наряду с мерами военного противодействия, кропотливую социально ориентированную и просветительную работу государства с российскими мусульманами, т. е. всемерную государственную поддержку традиционного российского ислама.
Список литературы К вопросу о сравнительно-историческом анализе религиозного экстремизма в контексте цивилизационной дихотомии «Запад – Восток»
- Алаев Л. Б. Индусско-мусульманский конфликт в Индии // Конфликты на Востоке: Этнические и конфессиональные. М., 2008. С. 347-371.
- Вавилов А. И. «Исламское государство»: идеология, структура и военно-политическая деятельность // Международная аналитика. 2016. Вып. 3. С. 85-96.
- Де Лонг-Ба Н. Реформы Мухаммада Ибн Абд аль-Ваххаба и всемирный джихад. М.: Ладо-мир, 2010. 374 с.
- Желтов В. В., Желтов М. В. Исламский терроризм: радикализация, рекрутирование, индок-тринация: моногр. М.: ИНФРА-М, 2018. 108 с.
- Корм Ж. Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна. М.: Ин-т общегуманитарных исследований, 2012. 288 с.
- Макутчев А. В. Феномен религиозных повстанческих движений в Африке: Движение Святого Духа и Господня армия сопротивления // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: История. Международные отношения. 2019. Т. 19, вып. 3. С. 344-348.
- Мартыненко А. В., Надькин Т. Д., Грачева Е. З., Корякова И. К. Образы ненависти. Экстремизм в современном мире. Саранск, 2021. 161 с.
- Овсянникова Я. А. Деятельность «Боко Харам» как фактор дестабилизации положения в Западной Африке // Academy. 2019. № 6. С. 116-119.
- Сиваков Е. А. Тоталитарная секта «Аум Синрикё» и религиозная безопасность Японии // Ежегодник Япония. М., 2007. С. 188-205.
- Тойнби А. Дж. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991. 730 с.
- Шагавиев Д. А. Исламские течения и группы: учеб. пособие. Казань: Хузур, 2017. 287 с.
- Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. Гештальт и действительность. М.: Мысль, 1993. 663 с.
- Clarke P. B. Encyclopedia of New Religious Movements. London; New York: Routledge, 2006. 794 p.
- Commins D. D. The Wahhabi mission and Saudi Arabia. London; NewYork: Tauris, 2006. 276 p.
- Delong-Bas N. J. Wahabbi Islam: from revival a reform to global Jihad. London; New York: Tauris, 2004. IX, 370 p.
- Falola T., Heaton M. A History of Nigeria. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 329 p.
- Lewis J. The Order of the Solar Temple. The Temple of Death. Bodmin: Ashgate, 2006. 230 p.
- Randal J. Osama: the making of a terrorist. London; New York: Tauris, 2005. XI, 346 p.
- Reiterman T., Jacobs J. Raven: The untold story of the Jim Jones and his people. New York: Dutton, 1982. XVII, 622 p.
- Salisu Salisu Shuaibu, Mohd Afandi Salleh. Historical Evolution of Boko Haram in Nigeria: causes and solutions // International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21 Century. 6-7 September 2015. P. 217-226.
- Schomerus M. The Lord's Resistance Army in Sudan: A History and Overview. Geneva: Graduate Institute of International Studies, 2007. 59 p.
- Warrick J. Black Flags: The Rise of ISIS. New York: Doubleday, 2015. 344 p.