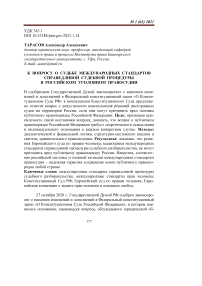К вопросу о судьбе международных стандартов справедливой судебной процедуры в российском уголовном правосудии
Автор: Тарасов Александр Алексеевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Актуальные вопросы развития отраслевого законодательства
Статья в выпуске: 1 (63), 2021 года.
Бесплатный доступ
В одобренном Государственной Думой законопроекте о внесении изменений и дополнений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ» к компетенции Конституционного Суда предложено отнести вопрос о допустимости неисполнения решений иностранных судов на территории России, если они могут причинить вред основам публичного правопорядка Российской Федерации. Цель: признавая приемлемость такой постановки вопроса, доказать, что вопрос о публичном правопорядке Российской Федерации требует теоретического осмысления и индивидуального толкования в каждом конкретном случае. Методы: диалектической и формальной логики, структурно-системного анализа и синтеза, сравнительного правоведения. Результаты: доказано, что решения Европейского суда по правам человека, касающиеся международных стандартов справедливой процедуры судебного разбирательства, не могут причинить вред публичному правопорядку России. Напротив, соответствие российской системы уголовной юстиции международным стандартам правосудия - надежная гарантия сохранения основ публичного правопорядка любой страны.
Международные стандарты справедливой процедуры судебного разбирательства, международные стандарты прав человека, конституционный суд рф, европейский суд по правам человека, европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
Короткий адрес: https://sciup.org/142232961
IDR: 142232961 | УДК: 343.1
Текст научной статьи К вопросу о судьбе международных стандартов справедливой судебной процедуры в российском уголовном правосудии
27 октября 2020 г. Государственной Думой РФ одобрен законопроект о внесении изменений и дополнений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации», в котором появилось положение, касающееся вопроса, обсуждаемого юридической об- щественностью уже более десятилетия. В ст. 3, определяющую компетенцию Конституционного Суда РФ, предполагается ввести новый пункт 3.3 следующего содержания: «по запросам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации разрешает вопрос о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации».
В названном законопроекте подводится некая черта под многолетними дискуссиями о том, в какой мере практика Европейского суда по правам человека применима на территории Российской Федерации, в условиях российской правовой системы. Если говорить об уголовном правосудии и вообще обо всей системе уголовной юстиции, то проблема эта касается самого широкого круга наиболее обсуждаемых в специальной литературе вопросов. Справедливая процедура судебного разбирательства включает в себя множество составляющих, образующих предмет исследования всей науки уголовного процесса, причем отнюдь не только в части судебного производства. Это и своевременность предъявления обвинения с обеспечением возможности защищаться от него, и участие защитника в судебном разбирательстве, и правила участия сторон в доказывании юридически значимых обстоятельств дела и многое другое [1, с. 173, 187, 227]. Каждый частный вопрос, ставший предметом рассмотрения Европейского суда, в контексте анализа его правовых позиций может стать темой специального монографического исследования [2; 3].
В целом в специальной литературе высоко оценено позитивное воздействие практики Европейского суда по правам человека на всю систему уголовной юстиции. Полезность этого воздействия и необходимость анализа и систематизации правовых позиций Европейского суда по правам человека по тем или иным вопросам правоприменения и использования в деятельности судов Российской Федерации постоянно отмечается в литературе [4, с. 4].
Подчеркивая относительное единодушие в оценках влияния международных стандартов прав человека на отечественную правовую систему, нельзя не обратить внимание и на отдельные оговорки по поводу допустимости в исключительных случаях не исполнять решения Европейского суда, как и отдельные нормы международного права, на территории России. Так, О.В. Химичева и Д.В. Шаров еще в 2017 г. отмечали: «Полагаем, что в случаях, если нормы международного права, как и осно- ванные на них судебные решения, расходятся с Конституцией РФ, КС должен обозначить свою позицию» [5, с. 307]. Такая точка зрения выглядит сугубо авторской, законодательного подтверждения не имеющей, однако авторы ссылаются на постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21П по делу о проверке конституционности положений ст. 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» и отдельных положений всех процессуальных кодексов в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы. «В данном постановлении, с одной стороны, подтверждается приверженность России международным договорам, с другой – отмечается, что Конституция РФ закрепляет недопустимость имплементации в правовую систему государства международных договоров, участие в которых может повлечь ограничения прав и свобод человека и гражданина или допустить какие-либо посягательства на основы конституционного строя РФ и тем самым нарушить конституционные предписания» [4, с. 307].
О.В. Химичева и Д.В. Шаров разделили всех специалистов в области уголовного процесса на две группы в зависимости от того, за чем они признают верховенство в системе источников уголовно-процессуального права: за международными договорами, в которых участвует Россия, или за Конституцией РФ [5, с. 305]. Позиция, основанная на признании верховенства собственного Основного закона перед любыми международно-правовыми обязательствами, разделяется и нами. Она отражена в классическом учебнике уголовно-процессуального права под редакцией профессоров И.Л. Петрухина и И.Б. Михайловской, в авторском коллективе нескольких изданий которого участвовал и автор настоящих строк [6, с. 26]. Такой подход – это нормальное условие полноценности международного сотрудничества равных суверенных государств-партнеров, если он не превращается в отстаивание собственной правоты на международной арене любой ценой и не влечет за собой самоизоляцию страны.
Оценка любых решений иностранных и международных судов на предмет соответствия российской Конституции – это объяснимое явление, по логике, оно относится к компетенции Конституционного Суда РФ. Даже теоретически нельзя допускать, чтобы российские государственные органы были вынуждены исполнять касающееся их судебное решение вопреки требованиям Конституции РФ. Практические примеры подобного рода автору статьи неизвестны.
В то же время, заключая какие-либо международные договоры или присоединяясь к ним, любое государство не просто берет на себя обязательства и становится ими связанным, вынужденным подчиняться каким-то общим правилам вопреки собственной воле. Каждое государство-участник в таких случаях обозначает вектор развития собственной национальной правовой системы и правоприменительной практики в соответствии с принципами и нормами, закрепленными в этом международном договоре. Сказанное в полной мере касается присоединения Российской Федерации в 1998 г. к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, частью которой является соглашение государств-участников о создании Европейского суда по правам человека. Понятно, что, вступая в Совет Европы и присоединяясь к Конвенции, Россия намеревалась имплементировать в свою правовую систему международные стандарты прав человека и справедливой процедуры судебного разбирательства, в ней закрепленные, и делала в этом направлении последовательные законодательные шаги с начала 1990-х годов [7, с. 47–53]. Столь же понятно, что этим внешнеполитическим шагом Россия четко обозначила свое намерение участвовать в деятельности Европейского суда по правам человека и исполнять его решения. Во всяком случае, никаких официальных специальных оговорок на этот счет тогда сделано не было. Не появились они и позднее, когда с начала 2000-х годов на Россию стали один за другим налагаться крупные имущественные взыскания за нарушение международных стандартов прав человека и справедливой судебной процедуры.
Возвращаясь к предложенному в законопроекте дополнению Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде РФ», обратим внимание на менее понятную формулировку, нежели указание на возможное противоречие решения международного суда российской Конституции: «если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации». Что есть «основы публичного правопорядка Российской Федерации» и что значит им противоречить – вопрос, заслуживающий отдельного внимания специалистов в области теории и практики права в целом и отдельных его отраслей. Понятие «правопорядок» – общетеоретическое, касающееся организации любых общественных отношений, регулируемых нормами права. Правопорядок в системе уголовной юстиции, судя по всему, должен подпадать под признаки того, что авторы законопроекта назвали столь непривычным термином «публичный правопорядок». Публичное начало российского уголовного процесса никем из специалистов никогда не ставилось под сомнение, независимо от признания в нем наличия элементов диспозитивности или даже принципа сочетания публичных и диспозитивных начал. Заметим, что в этом российский уголовный процесс отнюдь не уникален: государственный орган, реализующий публичную власть, является обязательным участником уголовно-процессуальных правоотношений во всех национальных системах уголовного процесса обеих мировых правовых семей. Тем не менее термин «публичный правопорядок» или хотя бы что-то, его напоминающее, в уголовно-процессуальном законе не используется, да и к числу общеупотребительных в уголовно-процессуальной науке его отнести нельзя.
В ст. 1193 ГК РФ есть оговорка о возможности не применять норму иностранного права на территории Российской Федерации в исключительных случаях, «когда последствия ее применения явно противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку)». Полагаем, что и при отсутствии полного терминологического совпадения авторы законопроекта имели в виду именно это или что-то синонимичное. Однако яснее от этого не стало, поскольку и в гражданском праве этот термин не относится к числу широко распространенных и обозначает сугубо оценочное понятие, подлежащее индивидуальному толкованию для каждого конкретного случая. Авторы законопроекта, судя по всему, это и имели в виду, полагая, что сначала названные в законе инициаторы обращения в Конституционный Суд, а затем и он сам должны будут излагать и мотивировать собственное видение этого индивидуального толкования. Однако некие общие представления о названных оценочных понятиях рано или поздно придется выработать, руководствуясь не только теоретическими, но и практическими соображениями: решения международных судов всегда так или иначе затрагивают существенные правовые и политические интересы многих людей и социальных групп. Поэтому добиваться исполнения либо неисполнения этих решений на территории Российской Федерации заинтересованные лица будут, используя для этого все внутригосударственные и международные правовые средства.
Вопрос о возможных ограничениях для исполнения на территории конкретного государства – участника международного договора решений международных судов время от времени неизбежно возникает в разных государствах. Именно поэтому в теории права столь же закономерно обсуждается и будет обсуждаться вопрос об «основах публичного правопорядка» и возможных угрозах для него также в разных государствах.
На Международных Лихачевских научных чтениях в Санкт-Петербурге в мае 2009 г. живой интерес вызвал доклад профессора Потсдамского университета К. Шульце об особенностях «германского националь- ного правопорядка» (Die Deutschenational Rechtsordnung) [8, с. 417–420]. Правопорядок как таковой – это уклад общественной жизни, основанный на всеобщем соблюдении и исполнении нормативно-правовых предписаний. В привычном его понимании правопорядок – категория наднациональная [9, с. 430]. Если нормам права подчинена вся система общественных отношений, в стране есть правопорядок, если вместо норм права она подчиняется другим регуляторам, например воле диктатора, не связывающего свои требования правом, то правопорядка в такой стране нет. Именно поэтому сама постановка вопроса о национальном характере правопорядка показалась участникам научного форума весьма необычной. В ходе развернувшейся дискуссии профессор К. Шульце пояснила, что в Конституции ФРГ записано, что европейский правопорядок стоит выше национального правопорядка. «Однако в действительности Германия все время пытается привести европейские правовые нормы в соответствие со своими» [8, с. 423]. Полагаем, что здесь в цитируемом источнике допущена неточность перевода: государство – участник международных договоров и созданных на их основе организаций имеет весьма ограниченные и отнюдь не самостоятельные возможности влияния на содержание международно-правовых предписаний, тогда как правотворчество в области национального законодательства – это его прерогатива. Поэтому приведенная фраза означает нечто прямо противоположное: Германия стремится привести свои национальные правовые нормы в соответствие с европейскими. Это как раз вполне понятно. Во всех государствах, входящих в Совет Европы, наблюдается аналогичная тенденция. Однако в нашем контексте обратим внимание на главное: Die Deutschenational Rechtsord-nung – германский национальный правопорядок – это вовсе не показатель национального правового обособления Германии. Совсем наоборот, это показатель стремления Германии идентифицировать правопорядок внутри страны с принятыми в объединенной Европе стандартами.
На вопрос автора этих строк о том, с какими проблемами столкнулся «немецкий национальный правопорядок» после объединения Западной и Восточной Германии, К. Шульце ответила: «Восточные немцы как бы передали свой правопорядок ФРГ, то есть часть правопорядка бывшей ГДР ныне существует в ФРГ». Отношения между бывшими Западными и Восточными землями строились на основе двусторонних соглашений, которыми земли бывшей ГДР были недовольны. На унификацию германского национального правопорядка специалисты, по словам К. Шульце, отводили 10 лет [8, с. 423], которые сейчас, надо полагать, уже прошли. Сколько-нибудь заметных проблем в этом процессе за эти годы не выявлено. Во всяком случае, на фоне массовой иммиграции на территорию Германии беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки никакого внимания международного сообщества к этому процессу привлечено не было. Заметим, что очевидная и явно заслуживающая внимания германских властей особенность публичного правопорядка (здесь намеренно используем именно этот термин) внутри собственной страны не повлекла за собой отказа от международных обязательств, равно как и подстраивания воссоединенной ФРГ под социалистическую специфику правопорядка Восточной Германии. Профессор К. Шульце, работающая, к слову, именно в Восточной части ФРГ и представляющая один из самых известных университетов бывшей ГДР, специально отметила в дискуссии, что вследствие коренного пересмотра отношения к частной собственности в связи с воссоединением Германии некоторые бывшие граждане бывшей ГДР лишились своих домов, возвращенных прежним собственникам [8, с. 423]. Реституция – процесс болезненный в любом государстве, но Германия на него пошла, руководствуясь общепризнанными демократическими принципами отношения к священному и неприкосновенному праву собственности как одному из основных прав человека.
Пример Германии показателен не только в части неуклонности вектора развития национальной правовой системы и публичного правопорядка, но и в части неторопливости в решении этой проблемы. Официально объединение Германии произошло 12 сентября 1990 г., а в 2009 г., то есть через 19 лет, германские специалисты прогнозировали, что унификация германского национального правопорядка произойдет еще через 10 лет. То есть в общей сложности речь идет о 30 годах сосуществования разных публичных правопорядков в стране с постепенным движением их к сближению не только друг с другом, но и с европейским правопорядком.
Все сказанное в полной мере относится и к национальным системам правосудия. Взяв в качестве ориентира международные стандарты справедливой судебной процедуры, государства-участники одновременно обязались привести собственную систему уголовной юстиции в соответствие с этими стандартами и выполнить предписания международных судов, обнаруживших какие-то несоответствия в законодательстве или правоприменительной практике этим стандартам. Означает ли это, что страна – участница международного договора абсолютно лишена собственного права голоса по вопросам исполнения решений международных судов на собственной территории? Отнюдь нет. Принимая на себя обязательства по международным договорам, государство-участник вправе использовать в первую очередь международно-правовые средства для обоснования своего отказа от их исполнения. До тех пор, пока сформулированная и обоснованная в таком порядке коллизия не разрешена, государство-участник вправе поступать в соответствии с собственными национальными интересами, сознавая, что возможным последствием этих действий будет выход из соответствующего международного договора. В любом случае решение об отказе от исполнения решений международного суда, а для системы российского правосудия это, прежде всего, решения Европейского суда по правам человека, не должно быть произвольным, внеправовым и неаргументированным. Очевидно, что от Конституционного Суда РФ общество вправе ожидать самых взвешенных и точных решений, добротно аргументированных и нацеленных на разрешение возникающих коллизий, а не на усугубление их.
Решения Европейского суда по правам человека, касающиеся международных стандартов справедливой процедуры судебного разбирательства, на наш взгляд, в принципе не могут посягать на основы публичного правопорядка Российской Федерации. В уголовно-процессуальной литературе в качестве примеров прямого противоречия Конституции РФ приводится решение Европейского суда по правам человека об ограничении избирательных прав осужденных к лишению свободы [5, с. 308]. Не вдаваясь в дискуссию по существу этого предмета, обратим внимание на то, что этот вопрос не имеет отношения к международным стандартам справедливой судебной процедуры. При этом целая серия решений Европейского суда, касающихся запрета пыток и иного унижающего человеческое достоинство обращения, предусмотренного ст. 3 Европейской конвенции, или ограничений права человека на свободу и личную неприкосновенность или на доступ к правосудию или комплекса прав лица, обвиняемого в совершении преступления, подробно систематизирована и проанализирована в специальной литературе [4, с. 80–99]. Это решения, касающиеся международных стандартов правосудия. Исполнение их не может навредить основам публичного правопорядка России, поскольку они, не касаясь национального законодательства, связаны с выявлением грубых, а иногда и позорных для системы уголовной юстиции нашей страны неправомерных действий правоприменителей, необоснованных или немотивированных судебных решений. Ориентация решений Европейского суда по правам человека в первую очередь на позитивное изменение практики правоприменения, а вовсе не на изменение законодательства, также подчеркнута в специальной литературе [8, с. 142]. Российское государство, как никто другой, заинтересовано в повышении качества работы своих правоохранительных ведомств и судов.
Подводя итог сказанному, сформулируем краткие выводы:
-
– Российская Федерация как участник Совета Европы, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Европейского суда по правам человека приняла на себя обязательства по соблюдению международных стандартов прав человека и справедливой процедуры судебного разбирательства;
-
– оставаясь суверенным государством, Россия вправе использовать все международно-правовые средства для отстаивания своего права не исполнять те решения Европейского суда по правам человека, которые противоречат Конституции РФ или основам ее публичного правопорядка. Вопрос о таком соответствии либо несоответствии должен относиться к компетенции Конституционного Суда РФ;
-
– решения Европейского суда по правам человека, касающиеся нарушения международных стандартов справедливой процедуры судебного разбирательства в российской правоприменительной практике, по своей сути не относятся к числу судебных решений, которые могут создавать угрозу основам публичного правопорядка Российской Федерации. Напротив, такие решения нацелены на повышение качества деятельности российских правоохранительных органов и судов.
Список литературы К вопросу о судьбе международных стандартов справедливой судебной процедуры в российском уголовном правосудии
- Трубникова Т.В. Право на справедливое судебное разбирательство: правовые позиции Европейского суда по правам человека и их реализация в уголовном процессе Российской Федерации: учеб. пособие. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2011. 296 с.
- EDN: UDPPOH
- Шутемова Т.В. Влияние судебной практики Европейского суда по правам человека на обеспечение прав потерпевшего в уголовном процессе России // Вектор науки Тольяттинск. гос. ун-та. Сер.: Юридические науки. 2014. № 2 (17). С. 169-171.
- Шестакова С.Д. Право обвиняемого на очную ставку со свидетелями обвинения: европейские стандарты и российское законодательство // Право на судебную защиту в уголовном процессе: европейские стандарты и российская практика: сб. ст. по матер. междунар. науч.-практ. конф., Томск, 20-22 сент. 2007 г. / под ред. М.К. Свиридова. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2007. С. 107-113.
- Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод в судебной практике. М.: Проспект, 2014. 144 с.
- Химичева О.В., Шаров Д.В. Проблемы имплементации решений Европейского суда по правам человека в правовую систему РФ // Стратегии развития уголовно-процессуального права в XXI в.: матер. V Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 10-11 нояб. 2016 г. М.: РГУП, 2017. С. 304-309.
- Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. И.Л. Петрухин и И.Б. Михайловская. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2014. 688 с.
- Горшкова С.А. Стандарты Совета Европы по правам человека и российское законодательство: моногр. М.: НИМП, 2001. 352 с.
- Шульце К. Правовой порядок в Федеративной Республике Германии // Диалог культур и партнерство цивилизаций: IX Междунар. Лихачевские науч. чтения, 14-15 мая 2009 г. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2009. С. 417-423.
- Диалог культур и партнерство цивилизаций: IX Междунар. Лихачевские науч. чтения, 14-15 мая 2009 г. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2009. 552 с.
- Великая Е.В. Влияние решений Европейского суда по правам человека на уголовно-процессуальное законодательство по вопросам соблюдения права на защиту // Стратегии развития уголовно-процессуального права в XXI в.: матер. V Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 10-11 нояб. 2016 г. М.: РГУП, 2017. С. 139-147.