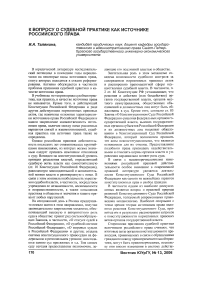К вопросу о судебной практике как источнике российского права
Автор: Талянина И.А.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы теории и истории государства и права
Статья в выпуске: 13 (68) т.2, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/147148939
IDR: 147148939
Текст статьи К вопросу о судебной практике как источнике российского права
К ВОПРОСУ О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ КАК ИСТОЧНИКЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА
И.А. Талянина, кандидат юридических наук, доцент кафедры государс твенного и административного права Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета
В юридической литературе исследовательский потенциал в последние годы переключился на некоторые виды источников права, статус которых находится в стадии реформирования. Активно обсуждается в частности проблема признания судебной практики в качестве источника права.
В учебниках по теории права судебная практика, как правило, в качестве источника права не называется. Кроме того, в действующей Конституции Российской Федерации и ряде других действующих нормативных правовых актов, где намечены основные характеристики источников права Российской Федерации и нашли закрепление множественность источников права, наличие между ними различных вариантов связей и взаимоотношений, судебная практика как источник права также не определена.
Однако российская правовая действительность последних лет ознаменовалась крупнейшими изменениями, из которых весьма значимым следует признать изменение отношения к суду. Возведен на конституционный уровень принцип разделения властей, определяющий судебную ветвь власти как самостоятельную (ст. 10 Конституции Российской Федерации), равноценную законодательной и исполнительной ветвям власти и равноправную с ними. В связи с этим возникла необходимость укрепления судебной власти, в частности, посредством учреждения ее независимости, несменяемости и неприкосновенности, а также повышения престижа в обществе и значения в защите права от любых нарушений.
На сегодняшний день в России предпринято немало шагов в этом направлении, получил законодательное закрепление механизм, обеспечивающий высокую и авторитетную роль суда в обществе: принят ряд системообразующих Законов, в частности, «О статусе судей в Российской Федерации», «О судебной системе Российской Федерации», «О мировых судьях в Российской Федерации» и другие; создана система конституционного правосудия на федеральном и региональном уровнях; воссоздается заново суд присяжных и т.д. Тем самым суду сегодня предоставлены полномочия, де- лающие его подлинной властью в обществе.
Значительная роль в этом механизме отведена возможности судебного контроля за содержанием нормативных правовых актов и расширению правозащитной сферы осуществления судебной власти. В частности, п. 2 ст. 46 Конституции РФ устанавливает, что решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Кроме того, согласно ст. 85 Закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» решения федеральных органов государственной власти, высших государственных органов субъектов Российской Федерации и их должностных лиц подлежат обжалованию в Конституционный Суд Российской Федерации, который полномочен признать эти акты неконституционными, что является основанием для их отмены. Предоставление подобного права признавать недействительными и отменять нормы органов власти и управления кардинально меняет роль суда.
В связи с вышеперечисленными изменениями российской правовой действительности особое внимание в современной правовой литературе уделяется деятельности Конституционного Суда Российской Федерации как одного из важнейших гарантов конституционных прав и свобод граждан.
В частности одним из наиболее дискуссионных является вопрос о правовой природе решений Конституционного Суда Российской Федерации, толкуемый современными правоведами неоднозначно. Наиболее спорными с точки зрения теории источников права являются решения Конституционного Суда, принятые им в результате рассмотрения запросов о конституционности нормативных правовых актов органов государственной власти. -
Сторонники признания судебной практики источником российского права считают, что итоговые акты органов конституционного правосудия, принимаемых в связи с обращениями граждан по поводу правоприменительной практики, могут быть правотворческими, поскольку они вносят изменения в систему действу-
Проблемы и вопросы теории и истории государства и права ющих правовых норм1, что Конституционный Суд РФ непосредственно создает нормы права путем принятия решений о признании того или иного нормативного правового акта или его части соответствующим Конституции РФ или неконституционным и такого рода решения содержат специальную правовую норму, а юридическая сила этой нормы равна юридической норме самой Конституции2. Л.А. Морозова, в частности, отмечает, что особый статус решений Конституционного Суда РФ среди актов судебной практики позволяет признать эти решения источником права, поскольку они выступают основанием для изменения, отмены или принятия нового акта или новой нормы права3.
Противники вышеприведенной точки зрения относительно решений Конституционного Суда о конституционности нормативных правовых актов органов государственной власти выделяют в качестве наиболее дискуссионного вопрос об их нормативности. Например, В.С. Нерсесянц считает эти акты сугубо правоприменительными, поскольку они не отменяют неконституционные акты, а лишь признают их не подлежащими применению. Очевидно, на наш взгляд, что ответ на этот вопрос не должен подменяться проблемой значимости и обязательности решений Конституционного Суда. Такие значимость и обязательность -бесспорные качества рассматриваемых актов, что не устраняет сомнений в нормативности постановлений по данному вопросу органа конституционного контроля.
Что касается актов Конституционного Суда РФ о толковании Конституции, то они воспринимаются неоднозначно как с точки зрения их содержания (здесь основной вопрос заключается в том, до каких пределов может доходить разъяснение положений Конституции и где гарантия того, что в процессе такого разъяснения норма не превратится в свою противоположность, не станет не узнаваемой или, по меньшей мере, не изменит своего смысла), так и с точки зрения их юридической природы.
В дискуссиях по этой проблеме довольно часто используется понятие прецедент. Часть авторов изначально не относит акты Конституционного Суда ни к нормативным актам, ни к прецедентам, имеющим нор-мативно-регулирующее значение, отмечая, что акты судебного толкования правовых норм, в том числе акты Конституционного суда Российской Федерации о толковании Конституции Российской Федерации «не могут быть нормативными по определению»4, поскольку в теории права о судебном прецеденте принято говорить как о результате деятельности такого суда, который является вышестоящим по отношению к другим судам. Иными словами, между судом, создающим прецедент, и судами, для которых этот прецедент является обязательным, должны существовать отношения иерархической (инстанционной) подчиненности, что не характерно для Российской Федерации вообще, и для российского конституционного правосудия в частности. Конституционный Суд Российской Федерации не выступает в качестве суда вышестоящей инстанции по отношению к каким-либо другим судам. Поэтому и о прецедентном характере его решений - во всяком случае, в том смысле, который изначально принято вкладывать в понятие «судебный прецедент» - вряд ли можно говорить, а, следовательно, и причислять его к источникам российского права.
Кроме того, нормативные разъяснения не содержат и не должны содержать самостоятельных правовых норм. Цель разъяснения нормы - установление смысла правила, его объяснение и уточнение, поскольку, в силу каких-то причин, оно выражено не с должной полнотой, четкостью и ясностью. Толкование не вносит и не может вносить поправок и изменений в действующие нормы. Нормативные акты изменяются и приспосабливаются к новым условиям не в процессе их толкования и применения, а в установленном порядке самим правотворческим органом. «Интерпретатор не создает право, а лишь выявляет, устанавливает государственную волю, выраженную в нормативном акте. Предмет исследования при толковании — правовая норма, за пределы которой при строгом режиме законности выходить нельзя»5. В силу этого, Конституционный Суд в своем толковании не может выйти за пределы истинной воли законодателя, вложить в ее содержание новый смысл, поскольку новый смысл таких разъяснений неизбежно вступает в противоречие со старой формой (воплощенной в строгие рамки нормы закона) и требует адекватного ее изменения в соответствии с этим смыслом.
Однако Б.С. Эбзеев полагает, что правовые позиции Конституционного Суда обладают характером правовых прецедентов, связывающих всех участников конституционных отношений. В свою очередь, Л.В. Лазарев отмечает, что решения Конституционного Суда являются прецедентными, «нормативно-интерпретационными». Б.С. Эбзеев указывает на то, что в своей практике Конституционный суд Российской Федерации, уполномоченный в законодательном порядке официально толковать текст Конституции Российской Федерации,
Талянина И.А.
идет значительно дальше ее простой интерпретации. Он формирует конституционно-правовую доктрину, предлагает свое понимание тех или иных положений Конституции, которое «связывает» все иные органы государственной власти и других субъектов конституционноправовых отношений и тем самым выполняет правотворческую функцию. Идея признания решений Конституционного Суда Российской Федерации источником права постепенно находит отклик у многих ученых-правоведов. X. Гаджиев также отмечает однозначность вывода о том, что постановления Конституционного Суда РФ по вопросам толкования Конституции РФ выступают в качестве источников права, являясь при этом источниками не только конституционного, но и гражданского, уголовного, трудового и других отраслей российского права6. Этого же мнения придерживается и Л.А. Морозова, справедливо, на наш взгляд, отмечая, что, разъясняя смысл конституционных предписаний, Конституционный Суд РФ тем самым дает ориентиры судебной и иной правоприменительной практике для адекватной реализации Конституции РФ в конкретных правоотношениях. Общеобязательность такого рода толкования и распространения его на неограниченное число случаев сообщает актам толкования нормативный характер7.
При этом признание интерпретационных актов нормативного толкования (прецедентов толкования) источниками права никак не умаляет роли и места Конституции РФ и иных федеральных конституционных и обычных
К вопросу о судебной практике как источнике российского права законов в иерархической системе нормативно-правовых актов, поскольку толкование в конституционном судопроизводстве выполняет лишь обслуживающую роль, выступая в качестве инструмента разрешения дел, рассмотрение которых отнесено к компетенции Конституционного Суда, а, следовательно, решения Конституционного Суда по делу о толковании Конституции РФ, как и акты толкования правовых норм высшими судебными органами Российской Федерации, могут быть отнесены не к основным, традиционным (нормативно-правовой акт), а к производным по отношению к закону, дополнительным источникам российского права.
Список литературы К вопросу о судебной практике как источнике российского права
- Терюкова Е.Ю. Правовые акты в процессе осуществления конституционного правосудия. Автореф.... дисс. канд. юрид. наук. М., 1999. С. 7.
- Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991-2001 гг.). Очерки теории и практики. М., 2001. С. 73.
- Морозова Л.А. Еще раз о судебной практике как источнике права//Государство и право. 2004. № 1. С. 21.
- Кошелева В.В. Акты судебного толкования правовых норм. Вопросы теории и практики. Автореф.... дисс. канд. юрид. наук. Саратов. 1999. С. 10.
- Закон. Создание и толкование. М., 1998. С. 69.
- Гаджиев X. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации как источник права//Право и Жизнь. 2000. № 26. С. 10.
- Морозова Л.А. Еще раз о судебной практике как источнике права//Государство и право. 2004. № 1. С. 22.