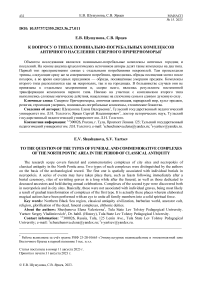К вопросу о типах поминально-погребальных комплексов античного населения Северного Причерноморья
Автор: Шушунова Е.В., Ярцев С.В.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Объектом исследования являются поминально-погребальные комплексы античных городищ и поселений. На основе анализа археологических источников авторы делят такие комплексы на два типа. Первый тип пространственно связан с отдельными погребениями некрополей. Там происходили тризны, следующие сразу же за совершением погребения, проводились обряды посещения могил после похорон, а во время ежегодных праздников - обряды, посвящённые умершим предкам. Комплексы второго типа располагаются как на некрополях, так и на городищах. В большинстве случаев они не привязаны к отдельным захоронениям и, скорее всего, являлись результатом постепенной трансформации комплексов первого типа. Именно на участках с комплексами второго типа выполнялись сложные магические действия, нацеленные на сплочение семьи в единую духовную силу.
Северное причерноморье, античная цивилизация, варварский мир, культ предков, религия, героизация умерших, поминально-погребальные комплексы, хтонические божества
Короткий адрес: https://sciup.org/14129214
IDR: 14129214 | DOI: 10.53737/2355.2023.36.27.011
Текст научной статьи К вопросу о типах поминально-погребальных комплексов античного населения Северного Причерноморья
МАИАСП № 15. 2023
К вопросу о типах поминально-погребальных комплексов античного населения Северного Причерноморья
Религия всегда являлась одним из связующих звеньев полисов Северного Причерноморья с остальным греко-римским миром, обеспечивая культурное единство всей античной цивилизации. Погребальные же обряды, являясь наиболее консервативным элементом культуры, всегда оставались неотъемлемой частью духовной традиции античного населения, в том числе и тех людей, которые в указанное время проживали на территории Северного Причерноморья.
Однако религиозное мировоззрение жителей Северного Причерноморья, особенно на протяжении первых веков н.э., все более менялось и трансформировалось. Имеющие римское, западно-понтийское и восточное происхождение культы божеств получали все более широкое распространение, верования индивидуализировались. Число частных культов неуклонно росло, популярность стали приобретать тяготеющие к монотеизму верования синкретического характера. Начала распространяться христианская религия в регионе. Почитание богов стало сосредотачиваться в собственных домах (Русяева 2005: 195). По этой причине, в качестве обязательной составляющей повседневной жизни все чаще начинают выступать культовые действия, относящиеся именно к домашнему почитанию божеств (Крапивина 2012: 204).
Известно, что святилища и жертвенники наряду с погребальной обрядностью, устойчиво сохраняют наиболее консервативные черты духовной культуры населения (Тульпе 2014: 197— 204). Тем не менее, в поминальной традиции в Северном Причерноморье, учитывая все серьезнейшие изменения, происходившие в античной духовной культуре в первые века н.э., до сих пор не все выглядит понятным и однозначным. Так, на современный момент можно уверенно констатировать, что так называемые поминально-погребальные комплексы античных городищ и поселений не были однородными. Одни из них традиционно были связаны территориально с конкретными погребениями на античных некрополях. Мы знаем, что в таких местах обычно отправлялись тризны, следующие непосредственно сразу после совершения погребения (следы которых прослеживаются по выкопанным вблизи могил жертвенным ямам или возведенным конструкциям — эсхарам) (Хршановский 2017: 158—166). В дальнейшем данные археологические объекты были востребованы для совершения обрядов, связанных с традицией посещения мест захоронений в определенные дни, а также с ежегодными праздниками, посвященными умершим предкам. На примере таких комплексов на некрополе Ольвии, где жертвенник был сделан из срезанных горловин амфор, вкопанных у изголовья погребенного, видно, что использовался он многократно и на протяжении длительного времени. Только по этой причине кости левой руки погребенного полностью разрушились из-за частых возлияний в одном и том же месте. В другом подобном случае по этой же причине полностью разрушились кости ног стоп погребенного в могиле I в. н.э. Зафиксирован подобный же обряд и для могилы II в. н.э. (Папанова 2006: 57). Учитывая, что речь идет о самом начале римского времени, очевидно, что перед нами следы традиционных эллинских обычаев, связанных с посещением могилы на третий, девятый и тридцатый день после похорон (Carland 1985: 40), а также возможно известного эллинского праздника весеннего пробуждения природы — Антестерия. Строгое соблюдение всех этих правил, очевидно, было связанно с уверенностью, что малейшее нарушение обрядовых действий, например не предоставление еды и питья душе умершего, могло привести к тому, что последняя начинала тревожить живых (Herod., I, 167; Paus., VI, 6,7). Более того, она могла жестоко отомстить за неподобающее к ней обращение (Петрухин 2010: 104). Из таких представлений следовала убежденность, что если умершего похоронить с нарушениями существующих правил, то душа его не найдет покоя и может накликать беду на ближайших родственников. Поэтому, если не было никакой возможности похоронить подобающим образом умершего, его потомки делали кенотаф, в котором и должна была найти успокоение неприкаянная душа (Eurip. Hel., 1061, 1240; Verg. Aen., VI, 505; XII, 214) (Carland 1985: 76, 102, 110—115).
Однако постпогребальные обряды, которые совершались на могилах в римское время, не заключались только в исполнении четко регламентированных предписаний с целью умилостивить обожествленных и в целом доброжелательных духов умерших предков. На неоднозначность постпогребальной практики античного населения явно указывает круг
МАИАСП № 15. 2023
вопросов, затрагивающий особый тип поминально-погребальных комплексов городищ и поселений. В рамках постпогребальной обрядовой традиции именно такие комплексы являются самыми трудно интерпретируемыми и требующими проведения дополнительных исследований. Самой большой сложностью здесь является то, что этот тип сакральных объектов, как правило, представляющий собой каменные круги и другие сооружения подквадратной и прямоугольной формы, в большинстве случаев, напрямую не был связан с собственно погребениями и даже с некрополями. Однако то обстоятельство, что указанные конструкции невозможно полностью оторвать от захоронений и культа умерших предков, все же позволяет нам именовать данные памятники поминально-погребальными объектами. При этом необходимо учитывать то, что на первом месте в обрядовых действиях здесь всегда идет обращение уже к умершему и погребенному родственнику, могила которого могла иногда располагаться на значительном удалении от места проведения ритуала. Следовательно, такие комплексы являлись, в первую очередь, именно поминальными и лишь затем погребальными, ведь собственно захоронения здесь могло и не быть.
Обращаясь непосредственно к подобным конструкциям, необходимо учитывать то обстоятельство, что каменные круглые постройки были достаточно хорошо распространены в эллинском мире. Например, в Северном Причерноморье в предэллинистическое и эллинистическое время они известны в Крымском Приазовье на поселении Генеральское Западное и поселении Тюмень 2 в Западном Крыму. При этом данные конструкции интерпретируются как зернохранилища (Масленников 2010: 112—116, 181—184; Смекалова, Кутайсов 2017: 408—409, рис. VIII, 47.8). Однако уже в римское время подобные или сравнительно близкие сооружения, трудно связать с производственной деятельностью. Они известны на Илурате, Белинском, Танаисе и, возможно, Фанагории, Китее, а также на Гераклейском полуострове и «Городище 11 км». Большинство из них явно связаны с культом предков, на что указывает, прежде всего, территориальное расположение данных объектов как непосредственно на некрополе, так и вблизи его (к тому же в центре одного из таких кругов на Илурате было выявлено захоронение, хорошо датируемое по монете Аркадия (395—408) (Ханутина, Хршановский 2003: 318). Правда, в Китее подобная конструкция была возведена еще в классический период в самом сакральном месте городища, непосредственно в его центре, возможно, с целью доминирования над окружающей местностью. Поэтому данное святилище имело отношение к культу предков лишь опосредованное, в рамках почитания в первых веках нашей эры Великой Матери, через ритуальные действия, направленные на установление тесных связей с хтоническим миром (Молев, Молева 2022: 192—206).
Однако сложнее обстоит дело в других случаях, как, например, на Гераклейском полуострове или «Городище 11 км», где у исследователей данных комплексов нет уверенности в их сакральном предназначении.
В первом таком проблемном случае В.М. Зубарь склоняется к версии, что каменные круги, разбросанные по всему Гераклейскому полуострову на территории земельных участков хоры Херсонеса (здесь известно уже более 20 таких объектов), датирующиеся позднеантичным временем, являются нижней углубленной частью юртообразных сооружений, предположительно оставшихся после гуннов (Зубарь 2006: 65—87). Однако существует версия, что данные сооружения (во всяком случае, те из них, которые явно не относятся к усадьбам и находятся на размежеванной территории) надо интерпретировать, как и другие подобные конструкции, в качестве поминально-погребальных комплексов, связанных с почитанием Деметры и Коры (Кленина, Созник 2004: 83—84). Критика и альтернативные гипотезы объясняют возведение круглых конструкций необходимостью использования их в качестве башен (Сапрыкин 2005: 170—171, прим. 69), производственных сооружений (Буйских 2008: 241), холодильных камер с целью хранения мяса, сыра, молока (Ковалевская, Сарновски 2010: 390—391) и даже загона для содержания животных (Кузищин, Иванчик 1998: 227—229). Заметим, что в ряде случаев внутри круглых конструкций помимо керамики удалось
МАИАСП № 15. 2023
К вопросу о типах поминально-погребальных комплексов античного населения Северного Причерноморья зафиксировать зольные пятна, оставшиеся после костра или ритуальной ямы (глубиной до 0,25 м) (Зубарь 2006: 68—71).
Во втором сложном случае на «Городище 11 км» расположенном недалеко от Керчи, внутри каменных кругов, датируемых I—II вв. н.э., помимо фрагментов керамики также удалось зафиксировать пепельный слой мощностью до 0,15 м, фрагмент черепа собаки (?) и небольшую яму, заваленную мелкими камнями (Свиридов, Язиков 2018: 201—202). В некоторых местах камни кладки каменного круга сохранили следы воздействия сильного огня (Свиридов, Язиков 2018: 203).
Все указанные особенности могут свидетельствовать в пользу сакральной функции указанных сооружений, т.к. обращает на себя внимание главная общая черта для большей части подобных конструкций, во всяком случае, для тех, которые функционировали в период поздней античности, — отсутствие привязки сооружений к конкретным захоронениям. Даже на Илурате, например, такие круги, по сути находящиеся на территории некрополя, были разбросаны по всему плато без видимого порядка и вне связи с конкретными могилами памятника. При этом, что, по нашему мнению, является важной особенностью, датируются они позднеантичным временем, вторичное же использование фиксируется уже в хазарский период в VIII—IX вв. (Хршановский 2014а: 179).
На некрополе Танаиса похожие объекты, начиная с I в., расположены непосредственно на его территории и интерпретируются авторами раскопок как кольцеобразные каменные оградки могил рядовых жителей. Только в последующее время они превращаются в массивные стенки над богатыми могилами (Толочко 2014: 156). Заметим, что по причине разрушения города в III в. эволюция этих, безусловно, важнейших сакральных сооружений в Танаисе была прервана. Вот почему данные сооружения сложно сравнивать, например, с теми же каменными кругами Илурата, датируемыми самое раннее IV в. Тем более, что похожий подход к выделению границы мира живых и мира мертвых на месте захоронения прослеживается и в ряде других мест, например грубые кольцевые выкладки из необработанных известняковых камней, иногда ограничивающие даже по два грунтовых захоронения, на античном некрополе римского времени Зеленый мыс, овально-круглые выкладки из дикарных камней на некрополе Сиреневая бухта или кольцевые оградки, сложенные из необработанных больших камней, на некрополе урочища Сююрташ (Масленников 2000: 138—140).
Еще загадочнее выглядит картина с выявленным А.П. Медведевым необычным сооружением на некрополе Фанагории. Объект датируется по расположенным вблизи могилам IV—V вв. и представляет собой некий ровик в виде правильного кольца с заполнением из супеси желтоватого цвета шириной до 0,5 м. Но самое интересное то, что данное кольцо, также как и каменные круги на Белинском городище и Илурате, напрямую не было связано с погребениями. Внутри ровика погребения отсутствовали. Зато они располагались вокруг данного сооружения, а входная шахта одного из них в виде подбоя, вообще, полностью вписалась в конфигурацию ровика. Другими словами, кольцеобразное сооружение явно было как-то связано с захоронениями (Медведев 2013: 333—334), что, по нашему мнению, сближает данный объект с каменными кругами на других античных некрополях. Конечно, по своей структуре и материалу этот ровик существенно отличается от упомянутых выше каменных кругов, в чем мы согласны с А.П. Медведевым (Медведев 2013: 334). Но исходя из сакрального смысла, которое закладывалось людьми во все эти кольцеобразные конструкции, они могут являться явлением одного духовного порядка. Тем более, что подобные круглые выкладки как из камней (Щукин 2005: 29—33), так и ровики, напоминающие круг из Фанагории (Schmidt 1961: 72—73, аbb. 32), по замечанию А.П. Медведева, были характерны и для варварских регионов Северной Европы этого времени.
На Белинском городище в ходе раскопок на раскопе «Восточный» было обнаружено пять компактно сложенных каменных кругов, три из которых были датируемы, так же, как и на Илурате, самое раннее IV в. н.э., остальные два сооружения — салтовским периодом. Сходство данных объектов с похожими конструкциями на Илурате прослеживается, во-первых, по
МАИАСП № 15. 2023
круглой форме и датировке, во-вторых, по пространственной структуре, не имеющей прямого отношения собственно к погребениям, равно как и характерному расположению на крутых склонах, в-третьих, по связи данных сооружений с обрядами возлияния жидкости. На Илурате система углублений и канавок была выявлена непосредственно в круге, на Белинском городище она зафиксирована рядом с кругами на алтарной вымостке с жертвенным камнем с чашеобразным углублением (Ярцев, Зубарев, Бутовский 2015: 416—430).
Некоторое сходство указанных сооружений прослеживается и с объектом на городище Китея, который авторы раскопок интерпретировали как святилище, посвященное хтоническому женскому божеству, поклонение которому сохранялось и в позднеантичное время (Молев, Молева 2007б: 84—89). Здесь данное сооружение, расположенное практически в самом центре городища, было также напрямую не связано с захоронениями людей. Две конструкции из четырех данного комплекса имели круглую форму, наличие же более 30 больших боспорских амфор явно указывало на какие-то обряды, которые отправлялись с помощью возлияния жидкости (был предложен вариант купания статуи женского божества и омовения мистов). Однако с такой интерпретацией слабо связаны обнаруженные здесь, как вотивные приношения — бальзамарии, лепные горшочки, так и принесение в жертву собак. Более того, в кладку конструкций аккуратно были вмонтированы надгробия антропоморфного вида. При этом строители явно старались не отбить головы используемых надгробий, несмотря на то, что это создавало проблемы при возведении конструкции (Молев, Молева 2007б: 84—88). Все эти особенности позволяют нам рассматривать данный сакральный комплекс на городище Китея в одной группе интересующих нас объектов, в рамках специфики отправления культа предков на Боспоре.
В этой связи обратим внимание на еще одну особенность, которая несколько выделяет данный комплекс из большинства подобных сооружений. Дело в том, что объект в Китее беспрерывно функционировал с конца II — начала III в. (Молев, Молева 2007а: 222) по V в. включительно (Молев, Молева 2007б: 84), что сближает его по времени с каменными оградками и стенками на некрополе Танаиса в своей нижней дате. Более того, на некрополе Китея, отличающимся монументальными семейными усыпальницами с росписью (Болгов 2021: 235—237), одно из мест захоронений (склеп № 206 II—VI вв.) было также ограничено каменной оградкой овальной формы, напоминающей поминальные кольца Танаиса. Только в данном случае место захоронения в Китее было со временем превращено в особый поминально-погребальный комплекс, где в III—IV вв. целенаправленно осуществлялись жертвоприношения и тризны (Тульпе, Хршановский 1999: 78—82; Болгов, Ляховская, Репина 2010: 20—21). Это позволяет предположить, что второй тип поминально-погребального комплекса античных городищ и поселений является трансформацией первого типа таких объектов, которые, напомним, располагались на некрополях и были привязаны к конкретным могилам.
В этом смысле огромный интерес вызывает обнаруженный не так давно на раскопе Восточный городища «Белинское» новый каменный круг. Он фактически располагается на том же самом участке, что и предыдущие объекты, но датируется несколько более ранним временем — II в., что сближает его с подобными комплексами в других местах. Данная каменная кольцеобразная стена с внутренним диаметром 4,6 м (ограничивающая данное круглое помещение № 55 площадью 23,75 кв. м) была выявлена под слоем зольника, который, похоже, имел отношение к позднескифским хтоническим верованиям (Ярцев, Зубарев, Бутовский 2015: 427). В позднеантичное время в специальной яме здесь были совершены ритуальные действия, которые мы связали с обрядом героизации умершего, похороненного где-то рядом со святилищем или на некрополе. При этом нами выделены позднескифские черты данного обряда, в первую очередь, трехуровневость ямы-ботроса, демонстрирующей следы варварской трехчленной организации космоса, которая по замыслу и должна была обеспечить обожествление, новое рождение и отправку умершего на небеса (Ярцев, Зубарев, Шушунова 2021: 578—602).
Все это, безусловно, отражает своеобразную региональную трансформацию религиозных представлений в пограничном регионе в результате влияния античной и варварских культур в
МАИАСП № 15. 2023
К вопросу о типах поминально-погребальных комплексов античного населения Северного Причерноморья эпоху кризиса античной цивилизации и боспорской государственности. Однако по этой же причине возникает огромная сложность в интерпретации подобных религиозных комплексов. Применительно к той же яме-ботросу на Белинском городище не все противоречия были устранены до сих пор. Напомним, что отождествление древнего топора (тёрочника/лощила) с хтоническим женским божеством, олицетворяющим третий нижний сакральный уровень ямы-ботроса, оказалось невозможным. Дело в том, что данный предмет был специально размещен между двумя половинами амфоры, т.е., возможно, с целью воскрешения в новой жизни. В связи с тем, что воскрешать в новой жизни женское божество не имело смысла, мы символически отождествили топор с собственностью умершего и с родом его занятий. Однако давно было замечено, что не каждый положенный в могилу предмет являлся личной собственностью умершего (Грязнов 1961: 144). Более того, очевидно, что такой топор в связи со своей древностью, обладал особой ценностью, и после смерти хозяина не мог не перейти во владение к кому-то еще. Поэтому по причине особой редкости, в момент ритуальных действий, он, скорее всего, являлся общей собственностью всех членов семьи умершего. Следовательно, сакральным смыслом такого обряда могло являться не только создание особых почестей своему умершему родственнику, но и стремление соединить своего обожествленного предка со всеми живыми членами его семьи, т.е. с ближайшими потомками. Возможно, это было необходимо для совершения возрождения умершего и даже реинкарнации образов предков, ныне живущих в божественном мире. Может быть, поэтому в позднеантичное время в подобных святилищах необходимо было использовать именно такие предметы — реликты, которые являлись собственностью всей семьи и поэтому символизировали всех ее членов целиком. Во всяком случае, такие предметы встречаются в интересующих нас круглых комплексах. Для примера приведем находку древнего кремневого орудия и кремневого отщепа из одного такого круга на Илурате (Хршановский 2015: 143). Несмотря на распространенное мнение, что кремень в погребениях могли использовать как огниво (Медведев 2013: 336), все же заметим, что подобные предметы, такие как каменные топоры со сглаженными сколами, не относились только к амулетами и оберегам (Яценко 2007: 275—278). Это были не просто редкие и дорогие вещи, они, по мнению людей, падали с неба и поэтому являлись таинственными и священными предметами, которые давали их владельцу богатство и большую власть (Карутц 1911: 124; Клейн 1978: 58), что, безусловно, дает нам право относить их к семейным реликвиям, со всеми вытекающими последствиями. Может именно поэтому В.А. Хршановский отмечает, что встречаемость вещей обладающих особой «сакральной» значимостью (кремневых орудий, нуклеусов, отщепов) в ходе исследований погребальнопоминальных комплексов и святилищ на том же Илуратском плато, не просто эпизодическое, а является закономерностью (Хршановский 2014б: 435). Более того, в погребениях столичной знати в склепах первого хронологического периода по И.П. Засецкой (конец IV — первая половина V в.), в которых явно наблюдалось смешение традиций готов, гуннов, и сармато-аланов, также начинает фиксироваться одна своеобразная особенность, ставшая, по мнению, исследовательницы, главной их отличительной чертой — устойчивое использование в погребальном обряде вещей более древнего периода (Засецкая 1996: 34; 2002: 311—320). Все эти действия родственников в обрядовой составляющей культа предков, скорее всего, не случайны и явно отражают его серьезную трансформацию.
При этом, как и ранее, отправление подобных ритуалов в поминально-погребальных комплексах второго типа с использованием вышеуказанных необычных предметов продолжало обеспечивать умершему лучшую участь в новой жизни. Однако в первых веках н.э. она все более отождествлялась уже не с мрачным Аидом, а с райской обителью героев (Диатроптов 2001: 58—59), которое в сознании людей все увереннее связывалось со звездами и небесами (Plato. Republ., 614, 621; Plut. Romul., XXVIII) (Cumont 1959: 103, 105, 167—169; Штаерман 1961: 288; Соломоник 1973: 70—77).
Для членов же конкретной семьи подобные ритуальные действия, означали, что все живые и давно умершие родственники объединялись в одну духовную силу, пронизанную божественной благодатью, что, по мнению людей, обеспечивало им лучшую максимальную сакральную защиту
МАИАСП № 15. 2023
от зла. Другими словами, скорее всего, речь стала идти о духовном соединении не, как раньше умершего с эллинскими богами, которые к этому времени, по-видимому, уже сильно дискредитировали себя, а именно живых людей со своими умершими предками — новыми божествами хтонического мира. Смысл таких изменений заключался в том, что боги — предки теперь стали представляться сверхъестественными персонажами более высокого ранга, что полностью отвечало потребностям конкретной семьи и изменившейся ситуации в позднеантичном мире. Такие боги — родственники, в отличие от традиционных эллинских богов, отличались от обычных божеств наличием любви к своим детям и внукам, что давало людям практически абсолютную гарантию в помощи и защите в трудной жизненной ситуации, а также убеждало их в надежде на спасение. Возможно, что люди после такого магического ритуала считали себя возрожденными в особой контактной зоне, расположенной между реальным и божественным мирами, что обеспечивало им по жизни постоянный пристальный надзор родственных потусторонних сил, и, следовательно, максимальное их покровительство.
Таким образом, очевидно, что поминально-погребальные комплексы античных городищ и поселений были двух типов. Одни из них были явно связаны территориально с конкретными погребениями на античных некрополях. Именно на них отправлялись тризны, следующие непосредственно сразу же после совершения погребения, совершались обряды, имеющие отношение к обычаям посещения могилы после похорон, а также к ежегодным праздникам, посвященным умершим предкам.
Что же касается второго типа поминально-погребальных комплексов античных городищ и поселений, расположенных как на некрополях, так и на городищах, то в большинстве случаев они не были привязаны к конкретным захоронениям, и скорее всего, являлись результатом постепенной трансформации первого вида подобных объектов. Другими словами, они отражали сложный процесс кризиса демократизации апофеоза умерших, начавшегося еще в первые века н.э. Однако только в IV в., по причине провала массовой героизации и неспособностью справиться с усиливающимся злом с помощью обожествленных родственников, произошла неизбежная и окончательная трансформация данных комплексов в объекты для отправления совершенно новой особой сакральной практики.
Судя по анализу полученного нами археологического материала, именно на участках второго вида поминально-погребальных комплексов, члены семьи стали совершать сложные магические действия, способствующие соединению всей семьи в единую духовную могучую силу, в которой фактически сливались живые и мертвые родственники в целостный организм, пронизанный божественной благодатью. Теперь не погребенный родственник сливался как раньше с эллинскими богами, а живые люди соединялись со своими умершими предками — новыми божествами хтонического мира. Не исключено, что статус богов — предков, в представлениях людей теперь стал гораздо выше, чем был раньше. Такие боги — родственники, в отличие от традиционных эллинских богов, отличались наличием любви к своим детям и внукам, что давало людям надежде на спасение и защиту. При этом защитное действие потусторонних сил пронизывало божественной благодатью всех членов большой семьи, как умерших предков, так и ныне живущих потомков что, по мнению людей, обеспечивало лучшее сакральное покровительство в изменяющемся мире. Не исключено, что живые потомки после такого ритуала могли представлять себя возрожденными в особой контактной зоне под пристальным взором родственных потусторонних сил. Возможно именно по этой причине такие обряды, затрагивающие, как мертвых, так и живых, безопасней всего было проводить не на конкретных могилах, а в пограничных местах между городом живых и городом мертвых. Допускаем, именно этим и должна объясняться выявленная учеными специфика расположения поминально-погребальных комплексов второго типа на античных городищах и некрополях.
МАИАСП № 15. 2023
К вопросу о типах поминально-погребальных комплексов античного населения Северного Причерноморья
Список литературы К вопросу о типах поминально-погребальных комплексов античного населения Северного Причерноморья
- Болгов Н.Н. 2021. Северное Причерноморье от античности к средневековью (2-я пол. III — 1-я пол. VII в.). Белгород: ИД «БелГУ».
- Болгов Н.Н., Ляховская О.В., Репина Е.В. 2010. Боспорский город Китей в позднеантичный период: микрозона, городище, некрополь. В: Кузищин В.И. (ред.). Причерноморье. История, политика, культура. Вып. III. Серия А. Античность и средневековье: избранные материалы международной научной конференции «Лазаревские чтения». Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 18—24.
- Буйских А.В. 2008. Пространственное развитие Херсонеса Таврического в античную эпоху. Симферополь: ТОВ «Керченьска мюька друкарня».
- Грязнов М.П. 1961. Так называемые оселки скифо-сарматского времени. В: Гайдукевич В.Ф. (ред.). Исследования по археологии СССР: сборник статей в честьМ.И. Артамонова. Ленинград: ЛГУ, 139—144.
- Диатроптов П.Д. 2001. Культ героев в античном Северном Причерноморье. Москва: Индрик.
- Засецкая И.П. 1996. Степи Северного Причерноморья и Боспор в гуннскую эпоху (конец IV—V вв. н.э.) Проблемы хронологии и этнокультурной принадлежности. Автореф. дисс. ... д-ра ист. наук. Москва: Институт археологии РАН.
- Засецкая И.П. 2002. Три хронологических индикатора боспорского некрополя раннесредневекового периода. В: Зуев В.Ю. (ред.). Боспорский феномен. Ч. I. Погребальные памятники и святилища. Материалы международной конференции. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 311—320.
- Зубарь В.М. 2006. Об интерпретации остатков круглых построек на Гераклейском полуострове. ПИФК XVI/1, 65—87.
- Карутц Р. 1911. Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке. Санкт-Петербург: А.Ф. Девриен.
- Клейн Л.С. 1978. Археологические источники. Ленинград: ЛГУ.
- Кленина Е.Ю., Созник В.В. 2004. Керамические сосуды II—III вв. н.э. из усадьбы «Близнецы». Poznan: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Instytut historii.
- Ковалевская Л.А., Сарновски Т. 2010. Сельские усадьбы Херсонеса Таврического в римское время: итоги исследований украинско-польской экспедиции. БИ XXIII, 379—410.
- Крапивина В.В. 2012. Домашние святилища античных памятников Северного Причерноморья. БИ XXVI, 182—217.
- Кузищин В.И. Иванчик А.И. 1998. «Усадьба Басилидов» в окрестностях Херсонеса Таврического. ВДИ 1, 205—233.
- Масленников А.А. 2000. Грунтовые некрополи сельских поселений Караларского побережья (Восточный Крым) первых веков н.э. ДБ 3, 136—200.
- Масленников А.А. 2010. Царская хора Боспора: (по материалам раскопок в Крымском Приазовье). Т. 1. Архитектурно-строительная и археологическая характеристика памятников. Москва: Триумф-принт.
- Медведев А.П. 2013. Позднеантичный некрополь Фанагории IV—V вв. (раскопки 2005 г.). В: Кузнецов В.Д. (ред.). Фанагория. Т. 1. Результаты археологических исследований. Москва: Институт археологии РАН, 330—402.
- Молев Е. А., Молева Н. В. 2007а. Комплекс культовых зданий на юго-восточной границе Китейского городского святилища. В: Айбабин А.И., Зинько В.Н. (ред.). БЧ VIII. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Святилища и сакральные объекты. Керчь: Крымское отделение Института востоковедения НАН Украины, 219—225.
- Молев Е.А., Молева Н.В. 2007б. О культовой принадлежности архитектурного комплекса II—V вв. н.э. на восточной окраине Китейского святилища. В: Зинько В.Н., Крапивина В.В. (ред.). Древности Северного Причерноморья в античное время. Симферополь: Крымское отделение Института востоковедения А.Е. Крымского НАН Украины, 84—89.
- Молев Е.А., Молева Н.В. 2022. Практика жертвоприношений в святилищах боспорского города Китея. В: Хршановский В.А. (ред.). Боспорский феномен: большие и малые города Боспорского царства: «круглый стол», посвященный 75-летию Е.А. Молева (1947—2021). Санкт-Петербург: ИПЦ СПбГУПТД, 192—206.
- Папанова В.А. 2006. Урочище Сто могил — некрополь Ольвии Понтийской. Киев: Знания Украины.
- Петрухин В.Я. 2010. Загробный мир. Мифы о загробном мире: мифы разных народов. Москва: АСТ; Астрель.
- Русяева А.С. 2005. Религия понтийских эллинов в античную эпоху: Мифы. Святилища. Культы олимпийских богов и героев. Киев: Стилос.
- Сапрыкин С.Ю. 2005. Денежное обращение на хоре Херсонеса Таврического в античную эпоху. Москва: Наука.
- Свиридов A. Н., Язиков С. В. 2018. Круглые каменные сооружения на поселении «Городище 11 км» на Керченском полуострове. ДБ 23, 2G1—212.
- Соломоник Э.И. 1973. Из истории религиозной жизни в северопонтийских городах позднеантичного времени (по эпиграфическим памятникам). ВДИ 1, 55—77.
- Смекалова Т.Н., Кутайсов ВА. 2017. Археологический атлас Северо-Западного Крыма. Эпоха поздней бронзы. Ранний железный век. Античность. Санкт-Петербург: Aлетейя.
- Толочко И.В. 2G14. Погребения грунтового некрополя Танаиса I—III вв. н.э. В: Зуев В.Ю., Хршановский ВА. (ред.). Погребальная культура Боспорского царства. Материалы Круглого стола, посвященного ¡GG-летию со дня рождения М.М. Кубланова. Санкт-Петербург: Нестор-История, 155—161.
- Тульпе ИА. 2G14. Семиотическая вселенная некрополя. В: Зуев В.Ю., Хршановский ВА. (ред.). Погребальная культура Боспорского царства. Материалы Круглого стола, посвященного ¡GG-летию со дня рождения М.М. Кубланова. Санкт-Петербург: Нестор-История, 197—2G4.
- Тульпе ИА., Хршановский ВА. 1999. Позднеримский погребально-поминальный комплекс в прибрежной зоне некрополя Китея. В: Борисковская С.П. (ред.). Боспорский город Нимфей: новые исследования и материалы и вопросы изучения античных городов Северного Причерноморья: международная научная конференция, посвященная бG-летию Нимфейской археологической экспедиции и VG-летию со дня рождения Н. Л. Грач. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 78—82.
- Ханутина З.В., Хршановский ВА. 2GG3. Ритуальные сооружения на некрополе Илурата. БИ III, 315—328.
- Хршановский ВА. 2014а. Aрхеологические исследования Илуратского плато: (ретроспектива и перспектива). В: Зуев В.Ю., Хршановский ВА. (ред.). Погребальная культура Боспорского царства. Материалы Круглого стола, посвященного ¡GG-летию со дня рождения М.М. Кубланова. Санкт-Петербург: Нестор-История, 172—182.
- Хршановский ВА. 2G146. Aсинхронные вещи в погребально-поминальных комплексах и святилищах (по материалам некрополей Китея и Илуратского плато). В: Зинько В.Н., Зинько ЕА. (ред.). БЧ XV. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Актуальные проблемы хронологии. Керчь: Крымское отделение Института востоковедения, 433—438.
- Хршановский ВА. 2G15. Круглые святилища на илуратском плато: Проблемы хронологии и этнокультурной принадлежности. Таврические студии. Исторические науки 7, 142—147.
- Хршановский ВА. 2G17. Тризны на грунтовых некрополях Боспора (по материалам раскопок некрополей Илуратского плато и Китейской равнины). Таврические студии. Исторические науки 12, 158—166.
- Штаерман ЕЖ. 1961. Мораль и религия угнетенных классов Римской империи. Mосква: AН СССР.
- Щукин M. 2GG5. Готский путь: (готы, Рим и черняховская культура). Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ.
- Ярцев С.В., Зубарев В.Г., Бутовский ATO. 2G15. Греко-варварский Крым в период поздней античности (III—IVвв.н.э. : от морских походов до битвы при Андрианополе). Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
- Ярцев С.В., Зубарев В.Г., Шушунова Е.В. 2G21. Особенности культа предков в Северном Причерноморье позднеантичного времени (по материалам городища «Белинское»). МАИАСП 13, 578—6G2. DOI: 1G.53737/2713-2G21.2G21.65.89.G15.
- Яценко СА. 2GG7. Орудия ранних эпох в погребальных и жилых комплексах античных городов Северного Причерноморья и окружающих варварских племен. В: Зуев В.Ю. (ред.). Боспорский феномен. Ч. II. Сакральный смысл региона, памятников, находок. Материалы международной конференции. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 275—278.
- Carland R. 1985. The Greek Way of Death. London: Duckworth.
- Cumont F. 1959. After life in Roman Paganism. New York: Dover.
- Schmidt B. 1961. Die späte Völkerwanderungszeit in Mitteldeutschland: Katalog (Nord und Ostteil). HalleSaale: Niemeyer.