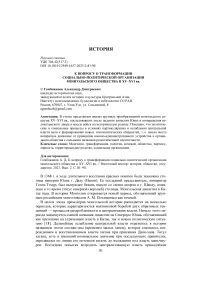К вопросу о трансформации социально-политической организации монгольского общества в XV-XVI вв.
Автор: Гомбожапов А.Д.
Журнал: Восточный вектор: история, общество, государство @eurasia-world
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ крупных преобразований монгольского социума XV-XVI вв., последовавших после падения династии Юань и возвращения великоханского двора и массы войск на историческую родину. Показано, что политические и социальные процессы в условиях партикуляризма и ослабления центральной власти вели к формированию новых этнополитических общностей, т. е. имело место возвратное движение от принципов военно-административного устройства к организации общества с сильными началами родоплеменной идентичности.
Монголия, трансформация, полития, кочевой, общество, партикулярность, территориальное родство, социальная организация
Короткий адрес: https://sciup.org/148327289
IDR: 148327289 | УДК: 304.42(517.3) | DOI: 10.18101/2949-1657-2023-2-81-90
Текст научной статьи К вопросу о трансформации социально-политической организации монгольского общества в XV-XVI вв.
Гомбожапов А. Д. К вопросу о трансформации социально-политической организации монгольского общества в XV–XVI вв. // Восточный вектор: история, общество, государство. 2023. Вып. 2. С. 81–90.
В 1368 г. в ходе длительного восстания красных повязок была захвачена столица империи Юань г. Даду (Пекин). Ее последний представитель, император Тогон-Тэмур, был вынужден бежать вместе со своим двором в г. Шанду, имевшую в то время статус северной (верхней) столицы. Монгольская династия в Китае пала. В истории Монголии открывается новый период, обозначенный крупным российским монголоведом А. М. Позднеевым как темный.
В целом эпоха премодерна монгольской истории распадается на несколько периодов, которые характеризуются маятниковой борьбой двух обратимых тенденций — процессов раздробленности и централизации власти. Начало этого периода знаменуется сменой названия династии на Северную Юань, обозначившей как претензию на утраченную власть в Китае, так и новую политическую ситуацию [18]. Дальнейшее ослабление центральной власти отразилось в истории названием эпохи сяо-ван-цзы (временем малых ханов), которое сменилось возрождением и восстановлением власти хагана при правлении Даян-хана. Титул хагана, хоть и имевший номинальное значение при последующих правителях, передавался по линии его потомков вплоть до вхождения под власть маньчжуров. Последняя попытка возродить централизованную власть принадлежит чахарскому Лигдан-хану. Несмотря на «смутное время», мало отраженное в источниках, постюаньское время представляет важнейший период в истории Монголии. Это уникальный период с точки зрения познания природы власти и потес-тарно-политических процессов в кочевом обществе.
Большинство исследователей, направление которых затрагивает данные процессы в кочевом обществе, сосредоточены на выявлении эволюционных моментов становления институтов власти, формирования политико-правового единства, понимаемых как постепенное усложнение системы управления. Однако не менее важным в раскрытии характера власти может послужить детальное пристальное прослеживание процессов обратимости централизации власти и деградации единого политического пространства. Это важная и самодостаточная академическая задача, которая позволит внести существенный вклад в общее понимание политогенеза в кочевых обществах.
После падения империи Юань в степи вернулось большое количество монгольской знати и массы монгольского войска [2; 4]. Безусловно, это не могло не создать определенного давления на местное население и должно было перекроить политический ландшафт. Процесс этот можно обозначить как трансформацию общественно-политической структуры, обратную становлению общества государственного типа. Вместо преобладающего военно-административного со-циорганизующего принципа монгольского общества на первый план выходит родоплеменная идентичность. Она задает вектор возрождению той универсальной основы — отношениям родства (псевдородства) и свойства, на которой зиждутся конкретные формы социальной и потестарно-политической организации кочевого общества, а в условиях тесного переплетения трайбалистского принципа, пронизывающего всю общественную организацию, — и этнополитические формы. Однако строго говорить о том, что состоялся обратимый процесс, реватилизирующий прежнюю общественную структуру не приходится.
Надо отметить, что сегодня наука применительно к монгольскому социуму XIV–XV вв. имеет лишь общее представление о том, как именно шел данный процесс трансформации. Чаще всего он ограничивается общим описанием распада политической структуры, ее дезинтеграции с последующим скатыванием к междоусобицам и сепартизму без внимания к деталям. Между тем не может не возникнуть потребность в конкретизации процесса дезинтеграции. Решение этой проблемы требует постановки ряда уточняющих вопросов. До какого уровня шел распад некогда единой политической общности и какие уровни идентичности актуализировались, т. е. какие были коллективные субъекты? Какие существовали механизмы и способы рекомбинации образовавшихся коллективных субъектов? Ведь с исчезновением политического единства в форме империи не исчезало само население, с исторических источников пропадало наименование и связанная с ней политическая идентичность, но не его бывшие носители.
Первым, кто обратил внимание на крупные преобразования общественной структуры, был выдающийся монголовед, академик Б. Я. Владимирцов. Именно он дал описание тех важных изменений, которые претерпело монгольское общество после падения династии Юань [2].
Ученый отмечает, что начиная с XV в. в источниках фиксируется совершенно новые объединения, обозначаемые словом otog, которые заменяют собой древнемонгольский род-клан и «minggan» («тысяча») имперского периода. По-прежнему сохраняется деление на ulus’ы, которые обозначалась также другим термином tümen. Otog является основной единицей, на которую распадаются ulus/tümen [2, c. 132]. По нашему мнению, существенное значение имеет характеристика Б. Я. Владимирцова монгольского оtog как коллективного объединения, основанного на территориальном единстве [2]. После крупных потрясений для социального устройства монгольского общества, вызванного смешением и дроблением родов и племен в рамках военно-административного устройства монгольской империи, выделением уделов наследникам с прикреплением населения, формированием новых подразделений и распределением войск по разным концам империи, а также после изгнания из Китая, появление такой социальной формы, как otog, основанного на территориальном принципе, было закономерным явлением.
Не менее значимым в прояснении дальнейшей эволюции монгольского общества является следующее замечание Б. Я. Владимирцова. «Так же, как в состав «тысячи» могли входить представители различных родов и племен, и Отоки составились далеко не из одних родственных групп. Как это сейчас было показано, самым важным для образования отока была территориальная зависимость. В некоторых местах, поэтому можно наблюдать дальнейшую эволюцию и заметить, как в отоках появляется территориальное родство (курсив наш. — Г. А. ), т. е. родство со всеми вытекающими последствиями вплоть до экзогамии, основанное не на кровных узах, а на территориальной близости» [2, c. 134]. Этими словами ученый наиболее верно отразил процесс становления новых общностей, манифестирующих новую этническую идентичность. Так, можно привести пример с такими этническими общностями, как чахар, хошуты, хорчины и др., составленными из представителей разных родов и племен.
Близкое к данному пониманию содержания отока мнения придерживается и известный монголовед, крупный специалист средневековой Монголии, Т. Д. Скрынникова: «можно с большой долей уверенности говорить о том, что термином отог обозначалась мобильная административно-территориальная структура, т. е. подчеркивалось прежде всего то, что это была группа людей, привязанная к определенной территории и маркируемая этнонимом без какого-либо таксона» [12, с. 18].
Условием, способствовавшим вызреванию и устойчивости этнических общностей, как нам кажется, стал тот самый партикуляризм, о котором говорил Б. Я. Владимирцов. «… младшие феодалы sayid’ы, вернувшись к своим «тысячам», ставшим отоками, скоро почувствовали свою силу. Экономический и феодальный партикуляризм скоро создал из них почти независимых князей. Многие из сайдов оказались во главе нескольких отоков и даже улусов, если к тому были благоприятствующие обстоятельства» [2, c. 131–132]. Хотя здесь речь идет только о политической «автономизации», вполне можно допустить, что партикуляр-ность монгольского общества способствовала определенной обособленности и в то же время сплоченности внутри этой обособленности, что стало фактором зарождения новой коллективной идентичности, пограничной между принадлежностью и ощущением к единой политической общности и этническим самосознанием. Оставшись без ресурсов необходимых для поддержания «надстройки»,
Монголия перешла к кочевой политико-экономической модели. Особенностью такой модели является организация общества по автономным группам, основанным на горизонтальных родственных и выше племенных связях, следовательно, с высокой степенью независимости отдельных племенных лидеров от центральной власти. Известно, что в кочевом обществе все мужское население представляло явно или потенциально войско, часто выражаемое в понятии «народ-войско». Монгольские войска, организованные по военно-административному принципу, были вынуждены перестраиваться и в конце концов в условиях самообеспеченности перейти в форму народного ополчения.
Такое понимание отвечает разработанным в трудах Т. Д. Скрынниковой теоретическим положениям о том, что «в идентификационном дискурсе и в средневековье наблюдались процессы разной направленности, поскольку тот период отличается резкими, напекающимися изменениями в социполитической структуре, сопровождаемыми разрушением традиционных социальных институтов и появлением новых, изменениями поля культуры в целом. Менялся вектор идентификационных практик, актуализируя представления о разных общностях в резко меняющемся мире, изменялось моделирование дискурсов социополитийного строительства. Представляется, что наиболее важным является понимание постоянной изменчивости самосознания, в том числе этнического, пересмотра границ группы или сообщества и соответственно членства в них» [8, с. 199]. Современная антропологическая мысль наполнена идеей дрейфа идентичности, предложенной академиком В. А. Тишковым в русле развития конструктивизма. «Вместо возрождения, формирования, перехода, исчезновения этносов имеет место совсем другой процесс — это путешествие индивидуальной/коллективной идентичности по набору доступных в данный момент культурных конфигураций или систем, причем в ряде случаев эти системы и возникают в результате дрейфа идентичности» [13, с. 121]. Наверное, этнические перегруппировки в монгольском мире в средневековье представляют самый благодатный материал для прослеживания этногенеза с точки зрения конструктивистских теорий.
Множественный партикуляризм вполне может служить дополнительным объяснением и другому явлению — феномену устойчивой легитимности и исключительности рода чингизидов в обстоятельствах постоянной угрозы сепаратизма местной элиты, по крайней мере, у восточных монголов. У отоков, созданных на основе территориальности, отсутствовали прочные традиции наследственной власти, что делало местных вождей уязвимыми в правах на главенство в сравнении с представителями династии «золотого рода». Высказанное не противоречит факту ослабления власти хагана и сужению его полномочий, имевшее место в постюаньский период.
Масштабная трансформация, надо полагать, на время ослабила восточных монголов ( Зургаан түмэн ). В этих обстоятельствах на арену вышли западные монголы, или ойраты ( Дөрвөн Ойрад ) Противостояние западных и восточных монголов, вылившееся в череду вооруженных конфликтов, охватывает все первую половину XV в. и продолжается вплоть до правления Даян-хана.
Б. Я. Владимирцов говорит о борьбе двух сил в среде правящего слоя: между представителями «золотого рода» (altanurug) тайджами и сановой аристократией сайдами [2, с. 147]. По его мнению, именно она была причиной длительного пе- риода междоусобных войн, а также обусловила борьбу ойратов, которые, как известно, приходились «зятьями» по отношению к «золотому роду», с восточными монголами и даже противостояние левого и правого крыла [Там же, с. 147–148]. Известный монголовед Г. С. Горохова подчеркивает, что в целом это правильное объяснение, однако оно не является полностью исчерпывающим [3, с. 6]. Ее мнение основано на том, что «борьбу против монгольского хана порой вела не только ойратская, но и восточномонгольская служилая феодальная знать, стремившаяся к независимости» [Там же].
И. Я. Златкин, известный своим крупным вкладом в исследовании Джунгарского ханства, указывает в качестве основной причины войн ойратов и восточных монголов борьбу за торговые пути в Китай и торговые привилегии на китайских рынках [5, с. 57]. Он считает, что «это было главной экономической основой войн между ханами и князьями двух частей Монголии [Там же]. По мысли ученого, оказавшись в сложной геополитической ситуации, отрезавшей их от рынков на востоке (Китай) и на западе (земледельческие регионы Средней Азии), ойратские правители были вынуждены в зависимости от усиления или ослабления восточных монголов искать возможности для поступления ремесленноземледельческой продукции в том или ином направлении [5]. Именно это обстоятельство способствовало образованию ойратского союза как необходимого условия для соперничества и борьбы против восточных монголов. Идеологически оно получило оформление путем выработки новой идентичности, в том числе основанной на буддизме [6].
В то же время слабость ханской власти выдвинула на первые роли представителей племенной аристократии восточных монголов. В правление Угэчи-Хашиг (Оруг Тэмур хан) (1402–1408) выдвинулся Аргутай тайши, не принадлежавший к «золотому роду». Он стал фактически правителем восточных монголов при назначенном им Олдзей Тэмур хане (1408–1412).
Процессу раздробленности власти в монгольских степях способствовали не только внутренние факторы, но и большую, а временами и определяющую роль играла политика divide et impera , проводимая правительством минской династии. Хотя последовательность в проведении такой политики не всегда соблюдалась. Так, крупный разгром в 1436 и 1437 гг. китайскими войсками восточных монголов, предводительствуемых Адай-ханом, окончательно обессилил их и способствовал усилению и гегемонии ойратов.
Среди ойратских вождей на первые роли выдвигается Тогон тайши. Обладая реальной властью, но не имея легитимного права занять трон, он в 1433 г. возводит чингизида Тохта-Буга на ханский престол под именем Дайсунг-хан (1433– 1453). Он также выдал замуж за него свою дочь. Вскоре после этого события обнажились противоречия между провозглашенным ханом и его тестем. Противостояние закончилось соглашением, в котором был отражен реальный расклад сил: номинально всемонгольским ханом оставался Тохта-Буга, реальная же власть была сосредоточена в руках Тогона тайши.
Последний, как пишут монгольские источники, намеревался провозгласить себя ханом. Для этого он прибыл в место интронизации к Восьми белым юртам Чингисхана в Ордосе. В монгольских источниках по-разному приводятся сведения о произошедших событиях, однако они едины в отношении причин гибели
Тогона тайши. Заносчивое поведение Тогона тайши в сакральном месте дорого обошлось ему [3, с. 50].
Ослаблению власти хана способствовал также и разлад с назначенным соправителем Агбарджин джинонгом. Поводом стало требование хана выдать подданного Агбарджин джинонга по имени Цаган [9, с. 262]. Получив отказ, хан «силой отнял близкого друга Цагана» [Там же]. Агбарджин джинонг, выйдя из-под власти Дайсунг хана, стал кочевать отдельно, а затем, вступив в сговор с ойратски-ми тайшами, выступил в поход против своего старшего брата Дайсунг хана. Аг-барджин джинонг не смог воспользоваться своей победой. Вскоре он пал жертвой заговора ойратов. Власть перешла в руки Эсэну тайши (1439–1454), сыну Тогон тайши.
Воссоединение сил западных и восточных монголов позволило Эсэну тайши обратить внимание на внешнеполитические вопросы. Первой задачей стало решение пограничных вопросов. В 1440-е гг. он разбил кыргызов, подчинил земледельческий оазис Кашгарии Хами и заставил признать власть над ними три ури-анхайских округа в Маньчжурии. Последние были образованы в три военных округа Ду-янь, Тайнин и Фуюй Минским правительством для предотвращения новых выступлений и контроля монгольских племен. В истории они вошли как три урианхайских округа. В мирное время они несли караульную службу, в военное — должны были выступить вместе с минскими войсками. Ежегодно за несение службы они получали земледельческий инвентарь, посевной материал, тягловый скот, шелка, ткани, вино, продовольствие [17].
С решением пограничных вопросов определилась и главная задача, которая стала все более актуальной с обострением противоречий по поводу даннических миссий минскому двору. Как пишет M. Россаби, многочисленность торговоданнических посольств стали основным фактором разлада между минским Китаем и ойратами [16, p. 31]. Нарастание дипломатических посольств ко двору минского императора или, как их не без основания называет И. Я. Златкин, купеческих караванов, было связано с необходимостью удержать власть со стороны Эсэна, поскольку получаемые в обмен щедрые подарки и угощения служили вознаграждением за лояльность монгольской элиты [1, с. 191]. Это видно из того, что посольские миссии имели сложносоставной характер. Об этом пишет Г. Сэй-ррос, который посвятил этому вопросу несколько солидных публикаций. Так, он показал большое количество участников даннических миссий, отправляемых Эсэн тайши. Наглядным примером может послужить прибывшая ко двору в декабре 1453 г. данническая миссия, в которой обозначены послы от самого Эсэна, от его матери, четырех его младших братьев и его старшего сына [18, с. 10].
Из вышесказанного становится очевидным, что характер и структура власти ойратского ханства были типичными для крупной кочевой политии. Это многоступенчатая иерархическая система, интегрирующая отдельные кочевые общности в военно-политическую организацию, «пронизанную на всех уровнях племенными и надплеменными генеалогическими связями» [8, с. 491]. Как пишет Н. Н. Крадин, «механизмом, соединявшим “правительство”» степной империи и племена, служили институты престижной экономики» [8, c. 496].
В силу объективных причин кочевое общество не может существовать без связей с «внешним миром» [14]. То, что не могло быть произведено или произ- водилось в недостаточном количестве, доставлялось из земледельческого Китая. Наряду с ремесленной продукцией огромное значение имела и потребность в продовольственном зерне. Особую потребность в нем кочевники испытывали в период стихийных бедствий (обильные снегопады, засухи и т. д.), вызывавшие массовый падеж скота и голод среди населения. Это становилось причиной инвазии (военной или мирной) номадов в пределы Китайского государства.
Получить желаемое кочевники могли двумя способами: войной или торговлей либо их сочетанием. Поэтому определяющую роль во внешней политике восточномонгольских и ойратских правителей играла борьба за доступ к рынкам сбыта Китая, установление долгосрочных форм обмена между кочевниками и оседлыми земледельцами [5, с. 27]. Д. Д. Покотилов говорит о существовании среди монголов двух партий: мира и войны. За заключение мира и возможности получения замаскированной дани в виде подарков от пекинского двора стояли монгольские князья. Партия «войны» отражала интересы простых кочевников, которые во время набегов получали возможность грабить и тем самым непосредственным образом получать необходимые для них вещи [10, с. 124].
Для Китая было важным держать беспокойных соседей под контролем и быть признаваемым в качестве сюзерена. Явно выраженный неравноценный обмен символической дани, приносимой дипломатическими миссиями монгольских правителей, на богатые и щедрые подарки, вручаемые от имени китайского императора, был по своему содержанию скорее замаскированной торговлей. Систему дани можно было бы по праву назвать торговой системой, потому что она давала этим племенам уникальную возможность обменивать местные товары и товары на продукты питания, шелк и другие предметы роскоши[18].
Не имея прочной основы, ойратская «империя» под предводительством Эсэн тайши при первом же серьезном внутреннем конфликте распалась, тем самым окончив гегемонию западных монголов. В монгольских степях в очередной раз наступили десятилетия междоусобных войн. Возрождение ханской власти связано с правлением Даян-хана (1464–1543). В монгольских источниках правление Даян хана оценивается как время благоденствия и благополучия. Наверное, явным отражением такой характеристики стало принятие нового титула. В письме о принятии дани, направленном к императору Китая в 1488 г., монгольский хан обозначен как «Да-юань-хаган» [15].
В то же время сепаратистские движения оставались постоянной угрозой. Источники перечисляют следующих племенных лидеров, которые были противниками Даян-хана, а значит центральной власти: кэрэтский Цаган, монголджинский Угурхэй, уйгурский Исмал, Бэгэрсэн-Хутагчи и Хонгхули [3, с. 40.] Последовательно разбив своих врагов, монгольджинов, уйгуров, а затем и ойратов, с лидерами которых у него были в том числе и личные счеты, Даян-хан упрочил свою власть, однако он не сумел установить твердый порядок. В подвластных ему владениях перманентно возникали попытки восстания, одним из таких было тумэт-ское восстание. Причиной стало назначение в качестве ханского наместника и управителя тумэтами Улусболода, сына Даян-хана, чем была очень недовольна местная знать. Обратившись к Даян-хану они сказали, что он назначил Улусбо-лода против их воли и они сами в состоянии найти себе правителя [3, с. 42–43].
Почему же Даян хану не удалось установить долговременное единство и преодолеть сепаратизм местных правителей? По мнению Г. С. Гороховой, причиной тому стало отсутствие той общественной силы, которая бы ратовала за политическое и экономическое единство монгольского пространства. Она не могла вызреть ввиду экономической отсталости, отсутствия внутреннего рынка и господства натурального хозяйства [3, с. 4]. Власть же Даян хану удавалось удержать лишь силой своего авторитета, а оспаривание верховенства его власти решалось силой оружия [Там же].
Кочевую политию или государство, как принято в историографии, Даян хана следует рассматривать как характерную для номадов политическую организацию. Надо полагать, что к этому времени окончательно утратились основы и принципы той хаганской власти и двора, которая по инерции продолжалась после падения династии Юань, и сепаратизм местных вождей достаточное доказательство того, что сформировались новые трайбалистские объединения.
Разрыв в процессе постоянного воспроизведения модели кочевой империи наблюдается со второй половины XVI в. Показательным в отношении эволюции власти в сторону общества с государственной формой организации стало правление Алтан-хана тумэтского (1548–1582).
Алтан-хану необходимо было выйти за пределы удельного статуса. В рамках традиций передачи власти и установленной системы титулов это сделать не представлялось возможным. «Согласно монгольской политической традиции, хан, потомок Чингисхана, верховный правитель монголов, находящийся под защитой Неба, — один. Поэтому те феодалы, реальная власть которых перешагнула за рамки их собственных владений и породила притязания на более высокий статус, вынуждены были вырабатывать концепции, способные обосновать их притязания на власть и объяснить ее формальный показатель — титул «хан»» [11, с. 12]. Тогда Алтан-хан обратился к буддизму.
Религия и политика, если точнее государственная политика, в средневековье понятия взаимосвязанные и взаимопереплетающиеся. Проникновение и успешное распространение буддизма в монгольском мире явление весьма сложное и, безусловно, было определено целым комплексом причин и уникальным стечением обстоятельств. Одним из таковых стали политическое соперничество и борьба за лидерство в условиях углубившихся процессов децентрализации и девальвации традиционных титульных институтов. В условиях трайбалистской удельно-сти монгольского мира претендовать на общую верховную власть, выйдя за ее рамки, можно было только с опорой на наиболее общие принципы объединения людей. Таковыми могли выступить только религиозные. Не обусловленные с этнической, политической идентичностью они представлялись наиболее приемлемыми. Только за счет формирования реактуализированной политикорелигиозной основы стала возможной легитимация нового политического статуса Алтан-хана.
Таким образом, период со второй половины XIV–XVII вв. в истории Монголии включал в себя сложные политические процессы. После падения династии Юань возвращение великоханского двора, служилой знати и войска в монгольские степи привело к формированию новой политической реальности. Это стало отправной точкой процесса трансформации средневекового общества Монголии.
Со временем ограниченность ресурсов и узкая база кочевой экономики, не претерпевшей каких-либо качественных изменений, запустили процесс становления независимых от центральной власти крупных этнополитических общностей. Вновь в организации общества возобладали родоплеменные принципы. В то же время внутренние причины генезиса единой центральной власти вкупе с политикой внешней (удаленной) эксплуатации приводили к тому, что в монгольских степях стремительно рождались крупные степные политии такие, как ойратская держава Эсэна тайши или государство Даян-хана и столь же стремительно исчезали под натиском центробежных сил.
Список литературы К вопросу о трансформации социально-политической организации монгольского общества в XV-XVI вв.
- Барфилд Т. Дж. Опасная граница. Кочевые империи и Китай (221 г. до н. э. — 1757 г. н. э.) / перевод с английского Д. В. Рухлядева, В. Б. Кузенцова. Санкт-Петербург: Факультет филологии и искусств СПбГУ; Нестор-История, 2009. 488 с. Текст: непосредственный.
- Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Ленинград: Изд-во АН СССР, 1934. 224 с. Текст: непосредственный.
- Горохова Г. С. Монгольские источники о Даянхане. Москва: Наука, 1986. 133 с.
- Далай Ч. Монголия в XIII–XIV веках. Москва: Наука, 1983. 232 с. Текст: непосредственный.
- Златкин И. Я. История Джунгарского ханства, 1635–1758. Москва: Наука, 1983. 333 с. Текст: непосредственный.
- Китинов Б. У. Особенности политико-религиозного развития ойратов в середине XIV — середине XV вв. // Вестник РУДН. Сер. Всеобщая история. 2020. № 3. Вып. 12. С. 236–249. Текст: непосредственный.
- Крадин Н. Н. Кочевники, мир-империи и социальная эволюция // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград: Учитель, 2006. С. 490–511. Текст: непосредственный.
- Крадин Н. Н., Скрынникова Т. Д. Империя Чингисхана. Москва: Восточная литература, 2006. 557 с. Текст: непосредственный.
- Лубсан Данзан. Алтан Тобчи («Золотое сказание») / перевод с монгольского, введение, комментарии и приложение Н. П. Шастиной. Москва: Наука, 1973. 439 с. Текст: непосредственный.
- Покотилов Д. Д. История восточных монголов в период династии Мин. 1368-1634: (По китайским источникам). Санкт-Петербург: Типография Императорской академии наук, 1893. 242 с. Текст: непосредственный.
- Скрынникова Т. Д. Ламаистская церковь н государство: Внешняя Монголия, XVI — начало XX века. Новосибирск, 1988. 104 с. Текст: непосредственный.
- Скрынникова Т. Д. Социально-политические институты монголов XVII в. // Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2014. №. 1. С. 14–28. Текст: непосредственный.
- Тишков В. А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии. Москва: Наука, 2003. С. 120. Текст: непосредственный.
- Khazanov A. M. Nomads and the outside world / translated by J. Crookenden. Univer-sity of Wisconsin Press, 1994. 442 p.
- Okada Н. Dayan Khan as a Yüan Emperor: the Political Legitimacy in 15th Century Mongolia // Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient. 1994. Vol. 81. P. 51–58.
- Rossabi M. Notes on Esen’s Pride and Ming China’s Prejudice // The Mongolia Socie-ty Bulletin. 1970. Vol. 9, No. 2 (17). P. 31–39.
- Serruys H. Sino-Mongol Trade During the Ming // Journal of Asian History. 1975. Vol. 9, No. 1. P. 34–56.
- Serruys H. Mongol Tribute Missions of the Ming Period // Central Asiatic Journal, 1966. Vol. 11, No. 1. P. 1–83.
- Veit V. The eastern steppe: Mongol regimes after the Yuan (1368–1636) // The Cam-bridge History of Inner Asia / edited by Nicola Di Cosmo, Institute for Advanced Study. Prince-ton. New Jersey, 2014. P. 151–181.