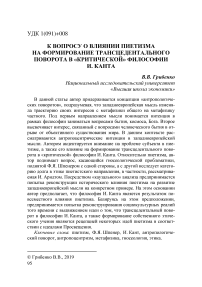К вопросу о влиянии пиетизма на формирование трансцедентального поворота в "критической" философии И. Канта
Автор: Грибенко В.В.
Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp
Рубрика: Культурологические и философские исследования
Статья в выпуске: 1 (3), 2019 года.
Бесплатный доступ
В данной статье автор придерживается концепции «антропологических поворотов», подразумевая, что западноевропейская мысль изменяла траекторию своих интересов с метафизики общего на метафизику частного. Под первым направлением мысли понимается интенция в рамках философии заниматься вопросами бытия, космоса, Бога. Второе высвечивает интерес, связанный с вопросами человеческого бытия в отрыве от объективного существования мира. В данном контексте рассматриваются антропоцентрические интенции в западноевропейской мысли. Автором акцентируется внимание на проблеме субъекта в пиетизме, а также его влияние на формирование трансцедентального поворота в «критической» философии И. Канта. Относительно пиетизма, автор поднимает вопрос, касающийся гносеологической проблематики, поднятой Ф.Я. Шпенером с одной стороны, а с другой исследует категорию долга в этике пиетистского направления, в частности, рассматриваемая И. Арндтом. Посредством «каузального» анализа предпринимается попытка реконструкции исторического влияния пиетизма на развитие западноевропейской мысли на конкретном примере. На этом основании автор предполагает, что философия И. Канта является результатом повсеместного влияния пиетизма. Базируясь на этом предположении, предпринимается попытка реконструирования социокультурных реалий того времени с выдвижением идеи о том, что трансцедентальный поворот в философии И. Канта, а также формирование собственного этического учения являются рецепцией некоторых идей пиетизма в соответствии с идеалами Просвещения.
Пиетизм, ф.я. шпенер, и. кант, антропологический поворот, антропоцентризм, метафизика, гносеология, этика
Короткий адрес: https://sciup.org/147230458
IDR: 147230458 | УДК: 1(091)+008
Текст научной статьи К вопросу о влиянии пиетизма на формирование трансцедентального поворота в "критической" философии И. Канта
Актуализация проблемы антропологических поворотов в современной науке
В современной науке развивается тема антропологических поворотов, что подтверждается многочисленными работами. Во-первых, это исследования, посвященные конкретизации термина «антропологический поворот» [1, 2]. Во-вторых, эта группа исследований, занимающаяся актуализацией последствий этих поворотов в современной философии, культурологии, социологии, психологии [3]. К третьей группе стоит причислить все те труды исследователей, занимающихся непосредственно рассмотрением концептов антропологических поворотов [4, 5]. Таким образом, теория антропологических поворотов (или переход от метафизики общего к концепту «метафизика частного», актуализирующий проблемы человеческого бытия) предпринимает попытку их решения. Следствия антропологических поворотов могут проявляться как в развитии философских течений (таких как, например, философская антропология, экзистенциализм, теология «смерти Бога» и так далее), так и в проявлении ментальности западноевропейского человека. Теология «смерти Бога», получившая развитие в XX в., является наиболее ярким примером такого поворота, так как в рамках этого учения философия и теология приходят к окончательному выводу о том, что познание трансцендентного вездесущего объективного бытия невозможно исходя из познавательных способностей человека, а, следовательно, напрашивается вывод, предполагающий, что изучение проблем человеческого бытия более актуально и имеет более серьезное практическое значение нежели вопросы трансцендентного бытия. Однако, следует отметить, что к подобному выводу в истории развития мысли приходил И. Кант (в критической философии). В современной философии этот феномен известен под таким названием как «трансцеден-тальный поворот» . Таким образом, мы ставим вопрос о том, являлись ли некоторые философские идеи И. Канта самобытными или они формировались под влиянием сторонних факторов, в том числе и религиозных учений, например, пиетизма.
Культурное наследие пиетизма и философские изыскания И. Канта
Затронув тему того, что смена предмета в дискурсе европейского человека происходила неоднократно, мы отмечаем Реформацию как один из таких переломных моментов. Так, средневековый образ жизни имел отличительные особенности, которые заключались в стремлении правителем донести до осознания каждого члена общества конкретные положения, права и свободы в реализации своей деятельности. Зарождавшийся в эпоху Реформации индивидуализм понимается как реакция некоторых групп общества на коллективный образ жизни, контролируемый государством и Церковью. Смена средневекового миропорядка повлекла за собой изменение ценностных установок в восприятии сильного, властного, конкурентоспособного, самостоятельного и автономного от прежних связей человека. В ситуации новых условий изоляция от других людей была необходима и являлась частью соревновательного духа эпохи, для которого коллективные ценности постепенно становились не такими значимыми. Мысль об успехе постепенно вытесняла фундаментальные представления о спасении. Заданная протестантизмом интенция дала начало развитию дискурса, в котором становится возможным развитие разнообразных трансформаций как христианского вероучения в целом, так и частных религиозных деноминаций.
Одной из таких форм трансформации в западноевропейской культуре был пиетизм. В данном дискурсе нас интересует влияние этого течения на развитие индивидуализма. Изучая доктринальные основы пиетизма, мы рассматриваем их как факторы, повлиявшие на формирование антропоцентричной картины мира в работах И. Канта. В такой перспективе рассматривается лютеранская ветвь протестантизма, который изначально был нацелен на решение практических задач отдельной личности, что повлияло на формирующееся богословие и ментальность в целом. Зародившись в немецкой среде, пиетистское учение распространяется сначала в кальвинизме, а после и в лютеранстве на тех территориях Европы, где находились представленные религиозные движения. В монографии «Из истории немецкой фи- лософии XVIII в.: предклассический период» В.А. Жучков дает понять, что пиетизм, будучи рожденным в немецкой среде был «…удобной формой религиозного умонастроения для значительной части прогрессивных и просветительски ориентированных деятелей науки и культуры…» [6]. Из этого следует, что пиетизм занял определенное место в европейской культуре и на протяжении долгого времени мог сохранять позиции в обществе. Этот факт позволяет нам утверждать, что данное религиозное учение могло серьезно повлиять на формирование немецкой мысли.
Данная линия протестантской мысли сделала шаг в формировании нового образа мышления также, как и Реформация в XVI в., это в свою очередь является подтверждением, что антропологические повороты совершались неоднократно. Разрушение связи поколений в переходе от одного периода исторического развития к другому (в нашем случае от Средневековья к Новому времени) закладывает основы для модернизации образа жизни, а как следствие, формируется тенденция социокультурных сдвигов в ментальности нового человека. В нашем случае, как мы говорили ранее, это переход от метафизики общего, то есть вопросов об объективном бытии, Боге и мире, к метафизике частного, где основным объектом философских изысканий становится человек. В связи с этим все, что с ним связано, становится центром философских изысканий. Это значит, что некоторые аспекты догматики пиетизма, начиная разворачивать идею о личностном познании, дают толчок для развития подобной перспективы, которая после в философии будет называться «антропологический» или «трансцедентальный» поворот.
Подтверждение гипотезы о влиянии пиетизма на сознание западноевропейского человека мы можем найти в трудах сборника «История философии: Запад–Россия–Восток» , где говорится о том, что это религиозное течение в большой мере повлияло на немецкий проект Просвещения, сформировав устойчивый интерес к личности и ее внутреннему миру. В связи с этим уделяется больше внимания проблемам этики, гносеологии, соотношению разума и веры, науки и нравственности, а самое главное «…необходимости и свободы как условия морального долга и нравственной ответственности» [7].
Одной из точек соприкосновения идей И. Канта и доктрины пиетизма является его непосредственное знакомство с этим учением. Для этого мы обращаемся к биографическим данным о жизни философа. На этом примере наиболее подробно можно изучить влияние пиетизма на индивидуальное развитие и духовное становление И. Канта. Детство И. Канта прошло в Кенигсберге в скромной и религиозной семье. Особое духовное влияние на становлении его личности оказывала мать – Анна Регина, которая исповедовала протестантизм в форме пиетизма Ф.Я. Шпенера. Мы можем предположить, что религиозная социализация И. Канта опосредованно транслируется в его философии. Итак, гносеология, лежащая в основе теологии Ф.Я. Шпенера, переосмысляется И. Кантом в «критический» период его философии, посредством которого в истории происходит сущностный поворот от общего к частному.
Влияние пиетизма на философию И. Канта отражено в исследовании «Донелайтис и Кант: к вопросу герменевтики выживания в эпоху “тайны беззакония”» В.Х. Гильманова. Автор рассматривает исторические предпосылки, повлиявшие на формирование собственного мировоззрения двух представленных персон [8]. Особое влияние доктрины пиетизма на личность И. Канта может быть прослежено в период его обучения в Кенигсбергском университете, ректором которого был Ф.А. Шульц, видный деятель пиетизма. В более сознательном возрасте И. Кант посещал лекции Ф.А. Шульца по теологии. Такое тесное общение этих двух личностей оставило след на интенции философской мысли И. Канта. В статье В.Х. Гильманова относительно формирования философских взглядов Канта, автор делает вывод, что его становление происходило в «идейнодуховных» исканиях, характерных для культуры раннего Просвещения в Пруссии. Но в полной мере учение Ф.Я. Шпенера и пиетизма в целом не принимается немецким идеалистом, ввиду его мистико-символического модуса несмотря на то, что он высоко оценивал морально-этическую составляющую этого учения. Он считал, что чрезмерный мистицизм так или иначе приводит к особому виду фантазий, которые сами по себе считаются опасными. Отсюда следует, что пиетизм, с его интенцией к мистицизму, не дает возможности выйти за пределы 99
того культурного кризиса, который начал развиваться с периода Реформации. Мы приходим к тому, что И. Кант, обнаружив в этом трудность, сам предпринимает попытку решения увиденной проблемы.
Гносеологические основания пиетизма, повлиявшие на мировоззрение И. Канта
Учение Ф.Я. Шпенера противоречит постулатам ортодоксального протестантизма (лютеранства, кальвинизма). Гносеологический подход, предложенный Ф.Я. Шпенером, заключается в том, что опыт человека, рассмотренный в основе всякого знания, различается автором в виде двух феноменов, именованных «плотское» и «духовное». Первое – мертвое, которого может достичь любой, а второе – истинное, которое возможно без эмпирического опыта, передающееся посредством Святого Духа. Также акцент делается на том, что любое познание становится возможным благодаря внутренним позывам души. Таким образом, мы сталкиваемся с точкой зрения, благодаря которой основное внимание уделяется субъективному со-бытию человека, где высвечивается роль индивидуального опыта и внутренних интенций, которые делают возможным познание и опыт. Следовательно, переживания отдельной личности становятся центром богословских дискуссий. Тем не менее, важным аспектом является тот факт, что источник знания заложен в глубине человеческого естества – душе. Совершенно уникальной является мысль Ф.Я. Шпенера, из которой выводится познание как основа рациональности, взятой из иррационального начала. В этой перспективе пиетизм рассматривает основу религиозного понимания, исходя из мистического переживания отдельного верующего. Н.В. Еремеева в статье «Просвещение и пиетизм: к истории трансформации нравственных воззрений протестантизма» пишет, что идея познания бытия (как эмпирического насущного, так и абсолютного) на основе личного опыта приобретает универсальный характер и дает предпосылки для формирования в Новое время антропоцентристской модели восприятия мира [9]. Иначе говоря, субъективное познание является главным критерием истинности сущего, подвергая сомнению, а впослед- ствии и отрицанию авторитета догм, постулатов и так далее, которые объективировали концепт личности в Средневековье.
В работе «Критика чистого разума» И. Кант ставит проблему гносеологии следующим образом: «В такое затруднение разум попадает не по своей вине. Он начинает с основоположений, применение которых в опыте неизбежно и в то же время в достаточной мере подтверждается опытом. Опираясь на них, он поднимается (как этого требует и его природа) все выше, к условиям более отдаленным. Но так как он замечает, что на этом пути его дело должно всегда оставаться незавершенным, потому что вопросы никогда не прекращаются, то он вынужден прибегнуть к основоположениям, которые выходят за пределы всякого возможного опыта и тем не менее кажутся столь несомненными, что даже обыденный человеческий разум соглашается с ними. Однако вследствие этого разум погружается во мрак и впадает в противоречия, которые, правда, могут привести его к заключению, что где-то в основе лежат скрытые ошибки, но обнаружить их он не в состоянии, так как основоположения, которыми он пользуется, выходят за пределы всякого опыта и в силу этого не признают уже критерия опыта. Арена этих бесконечных споров называется метафизикой» [10, с. 27]. Имеется в виду, что особенностью человеческого разума является интенция в постоянном обращении к вопросам метафизического характера, для разъяснения проблем повседневного бытия. Однако, из-за трудности или не познаваемости предмета рассуждений человеческому разуму свойственно ошибаться или заблуждаться. Далее он, развивая свою мысль, говорит об ученых, которые, обратившись к исследованиям природы в период развития эмпиризма и рационализма, говоря о объективности мира, забывают о субъекте познания, что так или иначе приводит их к «ошибке безразличия», что опять же дает начало метафизике. Таким образом, он конкретно обозначил проблематику и предложил ее решение, сформулировав его следующими словами: «…безразличие есть результат не легкомыслия, а зрелой способности суждения нашего века, который не намерен больше ограничиваться мнимым знанием и требует от разума, чтобы он вновь взялся за самое трудное из своих занятий - за самопознание и учредил бы суд, который бы под- 101
твердил справедливые требования разума, а с другой стороны, был бы в состоянии устранить все неосновательные притязания – не путем приказания, а опираясь на вечные и неизменные законы самого разума. Такой суд есть не что иное, как критика самого чистого разума» [10, с. 46]. На основании этих слов можно утверждать, что И. Кант, обращаясь к исследованию субъекта, закладывает основы трансцедентального идеализма.
Итак, в работе «Критика чистого разума» он излагает основные положения, составляющие суть его учения. Свой дискурс в этой работе философ начинает с введения двух типов познания: априорного и апостериорного. В первом случае априорные знания он характеризует как: «…безусловно независимые от всякого опыта, а не независимые от того или иного опыта» [10, с. 47]. Апостериорное знание по Канту возможно только посредством эмпирического опыта. Получается, к априорным он относит те, к которым не примешивается ничего эмпирического. В соответствии с этим он выделяет два типа суждений: синтетические и аналитические. Все аналитические суждения априорны, к ним относятся все те, в которых предикат принадлежит субъекту, то есть множество значений предиката входит во множество значений субъекта. В синтетических суждениях множество значений предиката не входит во множество значений субъекта. На основе вышесказанного И. Кант задается вопросом о возможности априорных синтетических суждений, и приходит к выводу, что они возможны в рамках трех сфер: математики, естествознания и метафизики. Говоря о том, что значат синтетические суждения априори в метафизике, он констатировал следующее: «Метафизика, даже если и рассматривать ее как науку, которую до сих пор только пытались создать, хотя природа человеческого разума такова, что без метафизики и нельзя обойтись, должна заключать в себе априорные синтетические знания» [10, с. 51]. Из этого следует, что ввиду своей специфики метафизика не может быть аналитическим знанием, потому что если бы она содержала аналитические суждения в основе, то стала бы набором определений. Соответственно, ей необходимо быть априорносинтетическим знанием. Она обращается к объектам, не доступным человеческому разуму, а, следовательно, действует вне любого возможного опыта.
Если подобные идеи мы соотнесем с гносеологией, предложенной в пиетизме, то можем предположить, что автономная гносеология И. Канта, подробно рассмотренная в работе «Критика чистого разума» , является продолжением идей Ф.Я. Шпенера. Это мы можем наблюдать на примере разделения знания Ф.Я. Шпенером, на так называемое «истинное» и «мертвое», как и у И. Канта на интенции человеческого разума к вопросам метафизики и обычному познанию, но в данном случае, философ идет дальше и предлагает целостную логическую систему, в соответствии с которой развивает свою философию познания. Мы говорим о том, что, выделяя «истинное» знание, Ф.Я. Шпенер богословским языком говорит о иррациональной возможности познания, о вещах, которые мы можем познать, говоря языком И. Канта a priori. На наш взгляд, здесь можно предположить, что И. Кант, развивая идею об иррациональном познании, вводит категорию априорно-синтетического знания. Необходимо отметить, что у И. Канта, как и у Ф.Я. Шпенера, основа всякого познания лежит в иррациональной составляющей человеческого бытия: «чистый разум» у И. Канта и «душа» у Ф.Я. Шпенера. Важно, что И. Кант составлял свою философию в соответствии с культурным концептом религии в пределах только разума. А следовательно, выделение подобной философии связано с необходимостью построения гносеологии в секуляризованном пространстве. Основываясь на этих предположениях, следует сказать, что пиетизм задал антропоцентрическую интенцию, а «критическая» философия в свою очередь совершает антропологический или «трансце-дентальный» поворот.
Морально-этическая составляющая пиетизма и категория долга
Далее мы отметим еще несколько принципиально важных черт пиетизма Ф.Я. Шпенера отраженных в трактате «Pia Desid-eria», повлиявших на формирование антропологического поворота в западноевропейской культуре. Во-первых, необходимо обратиться к этимологии слова «пиетизм», а именно за основу берется латинское слово «pietas», что переводится как «благочестие». Следовательно, пиетизм выступает как учение, которое особое внимание уделяет поведению верующего, которое должно соответствовать нормам христианской жизни. Таким образом, Ф.Я. Шпенер подводит к тому, что необходимо вести благочестивую жизнь, конкретизируя при этом не общее благочестие, которое со временем регулируется обществом и меняет свои нормы, а личное, которому должен соответствовать индивид. Протестантский богослов выделяет особые нормы благочестия, которые неизменны. Это необходимо для того, чтобы нормы благочестия сохранялись в рамках подлинного христианского учения. Но тем не менее это истинное и подлинное благочестие нужно демонстрировать собственным примером, показывая обществу идеал [11]. В данном случае Ф.Я. Шпенер акцентирует внимание на роли личности в социуме.
Итак, для нас в данной части важно определить место этики в религиозном течении пиетизма. В пиетизме особое значение уделялось морально-нравственной составляющей жизни индивида, которое по достоинству оценивал И. Кант. Эта нравственная составляющая тесно связана с категорией благочестия и взаимодействия индивида с социумом. Здесь вводится категория «долг». Протестантский теологи И. Арндт вводит эту категорию в работе «Об истинном христианстве», а именно в четвертой книге. В его понимании данная категория заключается в двустороннем ее смысле, во-первых, «долг» трактуется как долг перед обществом и раскрывается в благочестивом поведении и любви к ближнему, что необходимо для демонстрации правильного понимания любви и блага, а во-вторых, это долг перед Богом, который должен быть реализован посредством любви к ближнему посредством первого долга. И. Арндт подмечает это следующими словами: «Когда же человек любит Бога и ближнего, это доставляет благо и пользу ему самому. Выше мы сказали, что первая наша любовь, подобающая Богу, и наше служение Богу служит только нам самим во благо; из сего следует, что и вторая любовь, которою подобает нам любить ближнего, также приносит пользу нам самим. Ибо вторая любовь проистекает из первой. То, что человек есть образ и подобие Божие, составляет благо для человека, а не для Бога. И поскольку любить Бога и ближнего есть первый долг человека, а всякая обязанность человека к Богу идет ему же во благо, то из этого и следует, что сия двоякая любовь есть самое большое и пре- имущественное благо для человека» [12, c. 927]. Следовательно, категория долга является внутренней интенцией души человека, которая раскрывается посредством наличия в человеке способности любить. Любовь как таковая находится в человеке постольку, поскольку человек является подобием и образом Божиим. Мы приходим к тому, что человек несет моральную ответственность перед Богом, а также имеет долг перед ним за дарованную всевышним способность к нравственному совершенствованию, а отсюда, он этот долг человек может реализовать посредством благочестивой жизни. Человек же может выбирать в данном случае между благочестивой жизнью и исполнением долга или бездуховной жизнью. Таким образом, важно подметить, что данная категория впервые употребляется в христианстве и определяется только через понятие человека, а не Бога, как это было в Средневековье.
В данном случае может возникнуть вопрос о противоречии данной категории с доктриной о предопределении в протестантизме. Однако противоположное может быть подкреплено словами М. Вебера, что пиетизм как таковой уходит от проблематики детерминизма в лютеранстве и кальвинизме, приходя к тому, что личность имеет возможность выбора повиноваться долгу, который есть внутренняя интенция души или отказаться от него. Такая тенденция получила название «терминизм» [13]. В пиетизме складывается собственная сотериология, отличная от лютеранства, в которой, как мы сказали выше каждый индивид имеет возможность спастись. М. Вебер предлагает следующую модель наиболее полную характеризующую модель «терминизма»: «…спасение доступно всем, но для каждого человека - либо лишь однажды в некий совершенно определенный момент его жизни, либо когда-нибудь и, уж во всяком случае, в последний раз» [13]. Таким образом, мы приходим к тому, что лютеранский и кальвинистский протестантизм в свое время доктринально лишил человека свободы воли, пиетизм же ее вернул человеку. Как было замечено ранее, пиетизм ставил себя в противоречие классическому протестантизму. Будучи новым антропоцентричным учением, он все больше занимается проблемой индивида и личности, в отличие от протестантизма, ко- торый в силу влияния средневековой культуры не мог этого отойти от первостепенного обращения к метафизике общего.
Вторым аспектом, который необходимо подчеркнуть в философии И. Канта, является его этическое учение, отраженное в двух работах: «Основы метафизики нравственности» и «Критика практического разума» . Так как ранее мы упоминали, что И. Кант высоко оценивал этическую составляющую пиетизма, то необходимо сказать о влиянии идей этого течения на И. Канта. В его нравственной философии мы можем найти несколько параллелей. Дальше мы попытаемся их проследить и обосновать влияние этики пиетизма на формирование категорического императива, понятия «долг» и взаимосвязи свободы воли с этими категориями.
Во-первых, выделяется понятие воли. Воля, по И. Канту, тесно связана с моралью. Конкретно в данном случае очень остро выделяется именно то, что мораль невозможна без свободной воли. Если предположить, что свободной воли нет, то мораль должна определяться объективными иррациональными факторами. В связи с этим не может и быть истинно нравственного поступка, а тогда и не существует моральной ответственности. Данное положение указывает на необоснованность морали, а как следствие нивелирование всех нравственных ценностей, что неприемлемо для немецкого философа. Следовательно, И. Кант вводит категорию долга.
Во-вторых, выделяется категория долга. Эту категорию И. Кант вводит для обоснования существования морали. Итак, по И. Канту «долг» есть априорное требование, определяющее поведение индивида по отношению как к самому себе, «чистому разуму» , так и другим людям. Таким образом, внутреннее чувство долга наличествует в человеке имманентно его природе. Следующим функциональным фактором в построении нравственного учения И. Кант признает понятие свободы. Именно по причине свободного воления человек имеет возможность выбирать между следованием нравственному долгу и отказу от него.
В приведенных выше особенностях мы можем провести параллели между этикой пиетизма и категорическим императивом И. Канта. Первая важная особенность – это функция свободы в структуре долга. Выше мы упоминали, что в пиетизме человек наделен свободой выбирать между нравственным долгом и благочестием и отказом от него. В «Основах метафизики нравственности» мы находим аналогичные положения [14]. Однако, стоит заметить как сходства, так и различия. В данном случае различие является в том, что в пиетизме человек выбирает между долгом и отказом от него однажды и навсегда, тем самым предопределяя себя либо к вечной жизни, либо к смерти. В этике И. Канта человек сталкивается с проблемой свободы между выбором «долга» и отказом от него ежемоментно. Другой параллелью является наличие этических установок в природе человека. Пиетизм настаивает на том, что знание о долге заложено в природе человека, так как оный сотворен по образу и подобию Божиему. Для И. Канта это понимание не является удовлетворительным, так как, во-первых, здесь человек сталкивается с мистицизмом, который он отрицал, а во-вторых, для человека Просвещения, которым был И. Кант, такой ответ не является приемлемым. Следовательно, его этика выводится из его первой книги «критического периода» – «Критики чистого разума». В соответствии с гносеологической основой, которую И. Кант вводит в этой работе понятие долга в его моральнонравственном учении находится в человеческой природе имманентно его существованию, a priori.
Выводы
Для того, чтобы подчеркнуть целесообразность рассматриваемой проблематики трансцедентальной философии Канта с нашей темой обратим внимание на то, что такая философия становится возможна только в период, когда человек отходит от традиционной парадигмы, где основным предметом изучения является именно метафизика, представленная ранее в виде религиозного дискурса. В соответствии с этим использовалась особая группа понятий. К ней И. Кант относил особые идеи, не данные в опыте, а именно это идея души, Бога, бессмертия и так далее. Таким образом, такую попытку предпринимает И. Кант, меняя предмет с метафизики общего, основой для которой является религия, на метафизику частного, основой для которой является человек. Отсюда мы уже можем отталкиваться и говорить, что на примере представленной проблематики мы можем усмотреть антрополо- гический поворот, ввиду которой происходит формирование антропоцентричной картины мира и индивидуалистического мировоззрения. В соответствии с этими положениями мы делаем вывод, что И. Кант, предпринимая трансцедентальный поворот в «критической» философии, одновременно с этим интуитивно совершает и антропологический поворот. Необходимо обратить внимание, что в данном случае примечательным является то, что антропологический поворот совершает индивид, личность, частность, а не объективная парадигмальная реальность, то есть социум или западноевропейская мысль
Итак, И. Кант, находясь в том временном пространстве, когда старая парадигма уже отмерла, а новая еще не сложилась, становится, тем деятелем, который совершает окончательное оформление нового типа мышления. Он формирует гносеологические и этические основы своей философии из тех реалий, которые были ему близки исходя из тех социокультурных факторов, в которых он родился, вырос и выучился. Его философия является не deus ex machina как многим может показаться, а вполне логичным продолжением парадигмального развития западноевропейской мысли и культуры. В данном случае мы допускаем, что основой для интеллектуального становления немецкого идеалиста стало мистическое направление протестантизма, именуемое пиетизмом. Те идеи, которые выдвигают авторы этого течения в тех временных реалиях, получают свое логическое завершение в философии И. Канта.
С. 149–152.
National Research University «Higher School of Economics»
Список литературы К вопросу о влиянии пиетизма на формирование трансцедентального поворота в "критической" философии И. Канта
- Лепехин В.А. Антропологический переворот. Поворот, разворот или все-таки переворот? // Философские науки. 2016. № 4. С. 149-152.
- Савчук В.В. Метафора поворота в философии // Философские науки. 2010. № 10. С. 135-150.
- Брахман-медик Д. Культурные повороты по следам «антропологического»: некоторые замечания // Новое литературное обозрение. 2013. № 4. С. 35-36.
- Дмитриева Н.А. Человек и история: к вопросу об «антропологическом повороте» в русском неокантианстве // Этика и история философиия: материалы Междунар. науч. конференции. Тамбов, 2011. С. 22-41.
- Тайсина Э.А., Халитов Т.Н. Истоки философско-антропологического поворота в гносеологии Брентано // Вестник бурятского государственного университета. 2013. № 14. С. 74-77.
- ЖучковВ.А. Из истории немецкой философии XVIII в.: пред-классический период. М.: ИФ РАН, 1996. 260 с.
- Мотрошилова Н.В. История философии: Запад-Россия-Восток. Кн. вторая: Философия XV-XIX вв. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1996. 557 с.
- Гильманов В.Х. Донелайтис и Кант: к вопросу о герменевтике выживания в эпоху «тайны беззакония» // Кантовский сборник. 2015. № 4. С. 34-51.
- Еремеева Н.В. Просвещение и пиетизм: к истории трансформации нравственных требований протестантизма // Вестник русской христианской гуманитарной академии. 2016. Т. 17, № 1. С. 214-222.
- Кант И. Критика чистого разума. Ростов н/Д: Феникс, 1999. 655 с.
- Spener Ph.J. Pia Desideria. Charleston, SC: Nabu Press, 2012. 234 p.
- Арндт И. Об истинном христианстве / пер. с нем. под ред. игумена Петра (Мещеринова). М.: Эксмо, 2016. 1008 с.
- Вебер М. Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма / пер с нем. М.И. Левина. М.: Рос. полит.энциклопедия (РОССПЭН), 2006. 656 с.
- Кант И. Основы метафизики нравственности. Критика практического разума. Метафизика нравов / вступ. ст. Я.А. Слинина. СПб.: Наука, 1995. 528 с.