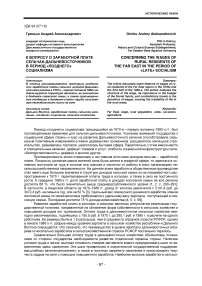К вопросу о заработной плате сельчан-дальневосточников в период «позднего» социализма
Автор: Гринько Андрей Александрович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 8, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются некоторые особенности заработной платы сельских жителей Дальневосточного региона в 1970-х - первой половине 1980-х гг. Анализируется структура зарплаты, ее значимость в бюджете советской семьи, а также противоречивые тенденции в динамике оплаты труда, вызывающие нестабильность жизни на селе.
Дальний восток, заработная плата, сельское население, "поздний" социализм, сельское хозяйство
Короткий адрес: https://sciup.org/14936918
IDR: 14936918 | УДК: 94
Текст научной статьи К вопросу о заработной плате сельчан-дальневосточников в период «позднего» социализма
Период «позднего» социализма, пришедшийся на 1970-е – первую половину 1980-х гг., был противоречивым временем для сельчан-дальневосточников. Усиление внимания государства к социальной сфере страны и курс на развитие Дальневосточного региона способствовали серьезным позитивным изменениям в жизни деревенских тружеников: расширялось жилищное строительство, развивалась торговля, укреплялась бытовая сфера. Параллельно с этим имели место и отрицательные явления: дефицит товаров и услуг, слабость социальной инфраструктуры села, «бесперспективность» деревни и многое другое.
Противоречивость эпохи отразилась и на главном источнике доходов сельчан – заработной плате. Поскольку основная масса жителей села была занята в аграрной сфере, то зарплата в основном поступала за труд в колхозе или совхозе и частично от работы в иных организациях несельскохозяйственной направленности. На данном этапе заработок в общественном производстве стал иметь еще большее значение в структуре доходов сельской семьи из-за повсеместного распространения к 1970 г. гарантированной оплаты труда в колхозах, а также в силу ее постоянного роста. К середине 1980-х гг. доля заработной платы в доходах колхозной семьи на юге региона достигла 68 %, что было значительно выше среднереспубликанского уровня [1; 2, с. 290–291]. В частности, в Амурской области за 1970–1985 гг. доход от колхоза увеличился с 2141,4 руб. до 3472,4 руб. на семью в год, или на 62 % [3]. Удельный вес совокупного денежного заработка членов колхозной семьи по своей величине приближался к удельному весу зарплаты, поступающей в совхозную семью. Последние достигли 78 % дохода домохозяйства [4; 5, с. 69].
Развитие заработной платы в колхозах и совхозах являлось результатом реализации государственной политики, направленной на сближение форм собственности в сельском хозяйстве и повышение доходов его тружеников. Оплата труда в дальневосточном сельском хозяйстве ежегодно увеличивалась, поднявшись с 155,5 руб. в 1970 г. до 285,1 руб. в 1985 г. в расчете на одного работника. Ее размеры были в 1,5 раза выше, чем в среднем по аграрной отрасли РСФСР, однако в начале 1980-х гг. разрыв между уровнем зарплаты в сельском хозяйстве республики и Дальнего Востока сокращается. Это означало, что преимущество в уровне зарплаты дальневосточных аграриев относительно заработков в сельскохозяйственной отрасли РСФСР постепенно терялось.
Сравнительно большая оплата труда в дальневосточных хозяйствах объяснялась осознанием со стороны государства необходимости развития отдаленной окраины страны. Нелегкие условия труда и жизни, высокая стоимость товаров заставляли власти предпринимать шаги по закреплению здесь населения. Эти шаги проявлялись в значительной государственной поддержке, масштабных капиталовложениях, а также в попытках закрепить население и приостановить текучесть кадров на селе с помощью повышенного заработка. Наиболее высокие заработки в сельско- хозяйственной отрасли сложились в Хабаровском крае, где к середине 1980-х гг. они даже превзошли средний уровень в регионе. Самая низкая оплата труда, вплоть до начала 1980-х гг., имела место в Приморском крае, а в последующем – в Амурской области.
К середине 1980-х гг. в сельской местности Дальнего Востока наименьшие заработки на селе продолжали сохраняться у колхозников; рабочие занимали среднее положение; наибольшую оплату получали служащие.
Несмотря на рост, уровень зарплаты в аграрном секторе существенно отставал от заработков в других отраслях дальневосточной экономики. В условиях сохранения большего размера сельской семьи по сравнению с семьей рабочего или служащего при равном количестве трудоспособных членов это означало, что сельчане получали низкие душевые доходы: к середине 1980-х гг. в среднем за год они были меньше на 450–650 руб., или на треть [6].
Повсеместное внедрение денежного вознаграждения за труд вело к снижению роли натуральных поступлений до минимального уровня, которые не превышали 2–3 % заработка [7]. Только по своему желанию сельчане могли получать часть заработка овощами, фруктами или сеном.
Теоретически между хозяйствами существовала разница в величине зарплаты, которая определялась рентабельностью совхозов и колхозов. Более высокую оплату труда могли обеспечивать, как правило, хозяйства пригородных районов, успешной деятельности которых благоприятствовала связь с городом и более развитая инфраструктура. Фактически в убыточных колхозах и совхозах оплата труда была такой же, как и в высокопроизводительных. Это объяснялось тем, что система оплаты труда, несмотря на попытки ее изменения, по-прежнему основывалась на принципах уравнительности и гарантированности средних заработков. Прямой связи между количеством, качеством труда и размерами дохода не было. Негативным явлением был и опережающий рост уровня зарплаты по сравнению с ростом производительности труда и даже на фоне падения последней.
«Уравниловка» в оплате труда не влияла на дифференциацию зарплаты по формальным признакам профессиональной принадлежности. Напротив, сохранялось четкое разделение между группами работников по уровню зарплаты. К высокооплачиваемым категориям относились механизаторы. Их месячный заработок, от 160 руб. в начале 1970-х гг. до 290 руб. в середине 1980-х гг., был немногим меньше, чем у главных специалистов хозяйств [8]. «Привилегированность» их была вызвана важнейшей ролью в аграрном производстве. Все они были заняты на работах с большой степенью механизации и имели высокий уровень квалификации. У других категорий тружеников, как правило сохранявших в неизменном виде сущность своего труда (агрономов, электромонтеров), средний уровень заработка колебался в пределах 130–200 руб. К «непривилегированным» категориям относились работники, связанные с конно-ручным трудом, зарабатывавшие от 75 до 130 руб. [9]. Их труд не требовал квалификации, для его выполнения было достаточно элементарных навыков, поэтому и оплачивался он невысоко.
В результате уровень заработков сельскохозяйственных тружеников в зависимости от профессии варьировался в широких пределах. Существовали заметные отличия в уровне зарплаты работников сходных профессий в колхозах и совхозах. Как правило, аналогичный труд в совхозах оплачивался лучше. Заработки женщин были значительно ниже, чем у мужчин, что главным образом объяснялось тем, что большинство женщин было занято немеханизированным ручным и неквалифицированным трудом.
Основная зарплата сельскохозяйственных тружеников юга Дальнего Востока дополнялась материальным поощрением, которое играло стимулирующую роль и зависело от объема и качества выполняемой работы. Конкретные виды и формы дополнительного поощрения были различными. Наиболее распространенными были доплаты по расчету за продукцию, за стаж и классность трактористам-машинистам, премии за перевыполнение плана. Большая часть премиальных средств распределялась среди работников растениеводства, в первую очередь, механизаторов.
Для стимулирования развития аграрной отрасли были учреждены звания «Мастер животноводства», «Мастер растениеводства» и «Мастер орошения», дающие прибавку к окладу. Однако в регионе насчитывалось немного их обладателей. Система начисления различных доплат, надбавок и премий была запутанной и бюрократизированной. Большая часть дополнительной оплаты была ориентирована на работников с длительным стажем и опытом работы, что означало ее отсутствие для молодежи.
Ситуация осложнялась тем, что систематически имели место нарушения правил поощрения. Лишение премий и доплат нередко использовали руководители как способ давления на работников [10]. Эффективность системы материального поощрения снижалась из-за того, что она не была связана с экономическими результатами деятельности хозяйств. Премии выплачивались и росли даже тогда, когда объемы производимой продукции сокращались, а ее себестои- мость увеличивалась. Дополнительная оплата стала рассматриваться не как материальное поощрение, а как часть основной оплаты. Она не столько стимулировала трудовую активность, сколько порождала из-за своей сложности недовольство и жалобы.
Таким образом, в 1970-х – первой половине 1980-х гг. зарплата дальневосточных сельчан последовательно увеличивалась. Основную роль играла гарантированная оплата труда, получаемая от работы в колхозе или совхозе, превосходившая средние показатели по республике. Положительные изменения в доходной части бюджета сельской семьи ограничивались существованием многочисленных проблем. Наиболее важной была серьезная диспропорция в доходах населения, занятого в сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Зарплата аграрных тружеников была слабо связана с производительностью труда и рентабельностью хозяйств. Уравнительные тенденции приводили к тому, что материальное стимулирование не оправдывало себя, не способствовало росту производительности труда. Кроме того, преимущества в заработках дальневосточных сельчан по сравнению с остальной страной постепенно снижались. Состояние доходов во многом определяло стабильность и закрепляемость сельского населения, являлось одним из важнейших факторов уровня жизни и развития сельскохозяйственной отрасли в регионе.
Ссылки:
-
1. ГАРФ. Ф. 374. Оп. 39. Д. 4701. Л. 14.
-
2. Народное хозяйство РСФСР за 70 лет. М., 1988. 434 с.
-
3. Бюджеты семей колхозников Амурской области за 1985 г. Благовещенск, 1985. 36 с.
-
4. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 47. Д. 1939. Л. 18.
-
5. Территориальные особенности формирования уровня жизни населения / отв. ред. А.С. Ревайкин. Владивосток, 1988.
-
6. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 63. Д. 2631. Л.6.
-
7. ГААО. Ф. 480. Оп. 12. Д. 169. Л. 1,3.
-
8. ГАПК. Ф. 131. Оп. 6. Д. 664. Л. 15.
-
9. ГАХК. Ф. 719. Оп. 22. Д. 360. Л. 9,20.
-
10. РГАНИ. Ф. 5. Оп. 63. Д. 272. Л. 22.
124 с.