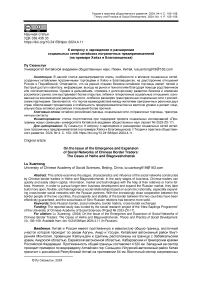К вопросу о зарождении и расширении социальных сетей китайских пограничных предпринимателей (на примере Хэйхэ и Благовещенска)
Автор: Лу С.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются этапы, особенности и влияние социальных сетей, созданных китайскими пограничными торговцами в Хэйхэ и Благовещенске, на двусторонние отношения России и Поднебесной. Отмечается, что на ранних стадиях бизнеса китайские торговцы имеют легкий и быстрый доступ к капиталу, информации, выходу на рынок и технологиям благодаря помощи родственников или соотечественников. Однако в дальнейшем, стремясь к долгосрочному развитию бизнеса и освоению российского рынка, они выстраивают более открытые, гибкие и гетерогенные социальные отношения, основанные на экономической рациональности, особенно расширяя трансграничные социальные сети с российскими партнерами. Заключается, что тесное взаимодействие между жителями приграничных регионов двух стран обеспечивает процветание и стабильность предпринимательства на местном уровне и делает социальную базу китайско-российских отношений более прочной.
Китайско-российская граница, социальные сети, пограничные торговцы, трансграничные контакты
Короткий адрес: https://sciup.org/149145283
IDR: 149145283 | УДК: 338.436.33 | DOI: 10.24158/tipor.2024.4.11
Текст научной статьи К вопросу о зарождении и расширении социальных сетей китайских пограничных предпринимателей (на примере Хэйхэ и Благовещенска)
территорий определяется по рекам Уссури и Амуру, которые, в свою очередь, не только являются естественным рубежом, своеобразной нейтральной полосой между Россией и Китаем, но и служат для летнего и зимнего сообщения между селениями, расположенными по обе стороны границы (Позняк, 2011). По мере изменений в китайско-российских отношениях, линия границы между двумя странами претерпела несколько делимитаций и корректировок, и на этой основе развился феномен трансграничного взаимодействия между жителями двух стран, проживающими в приграничных районах. Сказанное определяет необходимость обращения к рассмотрению специфики организации китайско-российского взаимодействия в сфере торговли на сопредельных территориях, актуальность которого в современных условиях интенсификации двусторонних контактов в рамках реализации китайской инициативы «Один пояс - один путь» и российской концепции «Поворот на восток» заметно возросла.
Целью настоящего исследования стало изучение процесса организации социальных сетей китайских пограничных предпринимателей (на примере Хэйхэ и Благовещенска), под которыми мы понимаем зарождение и развитие бизнес-структур мигрантов из Поднебесной, основанных на реализации торговли на приграничных территориях с активным вовлечением в нее как их соотечественников, родственников и друзей, так и российских граждан на правах потребителей или компаньонов.
В ходе работы над темой был предпринят историко-географический экскурс, в рамках которого представлена информация об условиях развития двусторонних торговых отношений на русско-китайской границе; репрезентировано отношение научного сообщества к организации социальных сетей, имеющих экономическую составляющую; описана специфика организации пограничных бизнес-структур. Кроме того, методом выборочного опроса-интервью осуществлено подтверждение сделанных умозаключений за счет содержания высказываний реальных участников предпринимательских отношений на приграничных территориях.
Основная часть . Город Хэйхэ (в переводе с китайского «Черная река») расположен в северной части китайской провинции Хэйлунцзян, а через реку Амур от него находится административный центр Амурской области РФ - Благовещенск. Благодаря географическим преимуществам, «народная» торговля между городами Хэйхэ и Благовещенск имеет давнюю историю. После основания в 1856 г. на левом берегу Амура в 40 верстах выше Айгуня русского города Благовещенска два этих города существовали и развивались во взаимодействии, в том числе и в торгово-экономической сфере (Дацышен, Лу, 2020). Когда русские переселенцы добрались на Дальний Восток, социально-экономическая база и уровень производительности труда в этом регионе были слабы, поэтому повседневные потребности жителей не могли быть удовлетворены. Кроме того, Дальний Восток находился далеко от европейского центра Российской империи, что затрудняло снабжение местных жителей товарами из Европы. Эти сложности заставили их полагаться в первую очередь на поставки продовольствия и предметов первой необходимости из соседнего Китая, и Хэйхэ быстро развивался в торговле с Россией. В начале XX в. здесь появился базар, который в то время был местом обмена товарами для жителей двух стран. После 1919 г., в связи с бумом золотодобычи, численность населения Хэйхэ резко возросла, китайско-российская «народная» торговля также вступила в период расцвета, а жители двух стран, занимавшиеся бизнесом, установили тесные связи друг с другом, что заложило глубокую основу сотрудничества в китайско-российской приграничной торговле в новый период.
В 1989 г. визит М.С. Горбачева в Китай стал началом нового периода в китайско-советских отношениях после 30-летнего периода отчуждения. В последующие годы был подписан ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве между Пекином и Москвой, и приграничная торговля двух стран достигла прорывного роста. Анализ различных источников позволяет утверждать, что правительство Китая надеялось на активное использование ресурса территорий сопряжения преимущественно за счет приграничной торговли, и когда стало понятно, что «нормальный» ее вариант развивается недостаточно эффективно, обратило внимание на «народную» торговлю и стало ее всячески стимулировать (Симутина, Рыжова, 2007).
В 1991 г. на острове Дахэйхэ (г. Хэйхэ) впервые началась «народная» торговля между Китаем и Россией, спустя шесть лет были созданы специальные зоны - «Хуши», позднее построен крупнейший на тот момент объект дсусторонней торговли на границе - Международный торговый центр острова Дахэйхэ. В рамках специальных зон «Хуши» Китай в основном экспортирует в Россию фрукты и овощи, спортивную одежду, кожаную обувь, куртки и другие товары повседневного спроса, а Россия - часы, металлические изделия и фотоаппараты. Многие китайские торговцы, мотивированные экономическими интересами и просто любопытством, стали «челноками», приезжающими в Благовещенск из Хэйхэ на один день с целью ведения торговли с местными жителями. Чтобы удовлетворить жизненные потребности местного населения и достичь личностного роста, предприниматели этого типа сформировали социальные сети, которые не только объединяли для взаимодействия в Интернете китайских торговцев между собой, но и поддерживали трансграничные связи с российским населением.
В социологических исследованиях концепция социальных сетей впервые была использована как метафорическое обозначение различных типов сложных отношений между людьми в обществе. В этом смысле социальная сеть – это относительно стабильная система межличностных отношений, поддерживающая уникальный набор связей между группой людей, структура и размер которой ограничивают поток и распределение ресурсов между ними.
Ученые из многих стран имеют различные точки зрения на этот феномен:
-
1) концепция «силы связей» выдвинута Марком Грановеттером, который считает, что по сравнению с сильными связями слабые увеличивают широту и разнообразие взаимодействия между людьми, а также обеспечивают поступление информации из более широкого круга источников, что в большей степени способно повлиять на отношения и поведение членов общества (Granovetter, 1973);
-
2) теория «структурной дыры» предложена Рональдом Бертом. Он анализирует феномен с точки зрения конкуренции и считает, что позиционная структура индивидов в сети важнее, чем сила связей, и поэтому члены сети, находящиеся на вершине «структурных дыр», имеют больше объемов информации и ресурсных преимуществ (Burt, 1992);
-
3) теория капитала представлена Линь Нань и другими учеными. В ее рамках социальный капитал рассматривается как совокупность нематериальных и материальных ресурсов, которые возникают и существуют в социальных сетях, являются формой действий их членов и движущей силой изменений (Lin Nan, 2002).
Китайские исследователи также обращали внимание на специфику межличностных отношений в человеческом обществе. Учитывая самобытность социальной среды и сети межличностных отношений в Китае, Фэй Сяотун выдвинул классическую «модель дифференцированного порядка». Он отмечал, что западное общество представляет собой образец группового взаимодействия с четкими семейными границами, а социальная структура Китая значительно отличается от него, составляя модель дифференцированного порядка. В Поднебесной с древних времен уделялось особое внимание разграничению близких и далеких отношений, а социальные отношения уподоблялись «ряби», распространяющейся слой за слоем, каждый из которых указывает на уровень отношений. В такой схеме каждый человек ориентирован на себя, а границы размыты. В западных странах семья рассматривается как четко определенная группа с постоянными членами, в то время как для китайцев понятие семьи является гибким и может использоваться не только для обозначения отношений между родственниками, соотечественниками и друзьями, но и для иллюстрации концепции «Человечество – одна семья» (Фэй Сяотун, 2011: 26–32). Таким образом, «модель дифференциального порядка» основана на кровных и географических связях и воплощает в себе различные цепочки отношений, устанавливаемых людьми в современном обществе Китая.
Бянь Яньцзе в своем исследовании выдвинул аналогичную точку зрения, утверждая, что в китайском обществе эмоциональная коммуникация и доверие особенно важны для межличностного общения, что социальные сети создаются благодаря сильным связям, а передача информации – это лишь проявление или даже побочный продукт передачи эмоций, и поэтому сильные связи важнее слабых (Bian, 1997).
В Хэйхэ и Благовещенске каждый китайский торговец на приграничном рынке выбирает собственный бизнес-модель и строит свою социальную сеть, основываясь на общественном капитале, которым он обладает. Наиболее динамичные отношения в социальной сети связаны в первую очередь с кровными и географическими связями, поскольку такие связи предшествуют экономическому поведению. С помощью их родственников и соотечественников торговцы адаптируются в незнакомой среде, получают источник дохода, по мере накопления опыта взаимодействия с местным населением начинают вести индивидуальный бизнес. Естественно, они также готовы помочь своим близким или знакомым приехать и начать работать на приграничном рынке, тем самым непрерывно расширяя неформальные сети взаимоотношений. Проиллюстрируем сказанное реальными примерами.
Кейс 1: женщина, 54 года: «Я родом из Харбина и приехала в Хэйхэ в 2002 г. В то время у моей старшей сестры была лавка в Международном торговом центре на острове Дахэйхэ, и она продавала в основном товары повседневного спроса. Бизнес шел очень хорошо, но не хватало рабочей силы, поэтому она попросила меня приехать, чтобы помочь. Моя старшая сестра сказала мне, что за один день можно заработать больше, чем за полмесяца в Харбине, я бросила прежнюю работу и приехала в Хэйхэ. В те годы было много русских покупателей с другого берега реки, а я не очень хорошо владела русским языком, поэтому записалась на курсы в вечерней школе, и постепенно стала лучше понимать речь покупателей. Моя сестра много лет занималась бизнесом, постарела, и у нее начались боли в ногах. В 2018 г. она оставила мне лавку, и вернулась в Харбин».
Кейс 2: мужчина, 51 год: «Я вырос в Хэйхэ и начал заниматься торговлей сталью с 1999 г. Многие виды стали, используемые в городских строительных проектах, поставляются моей компанией, а также у меня есть бизнес в России. Мой двоюродный брат раньше был крестьянином. Чтобы ему помочь, я устроил его водителем грузовика, и ему сейчас платят зарплату более 5,000 юаней в месяц, в то время как средняя зарплата местного водителя составляет 3,000 юаней. Его дочь также работала бухгалтером в моей компании после окончания университета. Кажется, она рассказала своему отцу о моих доходах, и это настолько поразило его, что он украл долговую расписку на 20 млн юаней из моего сейфа, и потребовал, чтобы я отдал ему 1 млн юаней в обмен на нее. Я не ожидал такого от своих близких. Знаете, я заработал свои деньги тяжелым трудом. Вначале я намерен был решить проблему в судебном порядке, но, учитывая родственные отношения, не смог допустить, чтобы этих людей посадили в тюрьму. Я заключил с братом сделку и обменял 500,000 юаней на расписку. Однако дальше он и его дочь не будут продолжать работать в моей компании».
Можно сказать, что благодаря своей стабильности и долговечности, отношения с ближайшими родственниками стали наиболее надежной социальной сетью среди китайских торговцев и сыграли положительную роль на ранних этапах ведения бизнеса. Однако в условиях открытой и постоянно меняющейся рыночной экономики, по мере расширения масштабов бизнеса традиционные социальные сети, основанные на сильных связях, в определенной степени превращаются в препятствия и выявляют дилеммы на разных уровнях.
В современных условиях стремительного развития рыночной экономики социальные сети, основанные на кровных и географических связях, являются относительно закрытыми и не могут полностью адаптироваться к рациональной рыночной экономике. Торговцы, желающие расширить свой бизнес, вынуждены трансформировать свой социальный капитал в рамках рыночных норм, что приводит к сокращению сетей сильных связей и укреплению слабых. По словам Марка Грановеттера, в одной группе однородность статусов индивидов приводит к дублированию информации, а слабые связи являются мостом к получению более ценных и разнородных данных, а также выступают важным ресурсом для доступа к мобильным возможностям и социальной интеграции (Granovetter, 1973).
Аналогично Рональд Берт отметил, что в каждой социальной сети существуют «структурные дыры», то есть разрывы между двумя группами, обладающими взаимодополняющими ресурсами и знаниями (Burt, 1992). Результат конкуренции на рынке тесно связан с положением ключевых ее акторов в сетевой структуре, некоторые из них могут иметь преимущество в социальных сетях перед другими, поскольку выступают в качестве посредников, соединяющих различные сетевые структуры, получая таким образом доступ к большему объему информации и возможностям (Вэнь Цзюнь, 2019: 105). Поэтому китайские торговцы постепенно заменяют ценностную рациональность инструментальной с целью максимизации прибыли, а их социальные связи уже не ограничиваются родственниками или знакомыми, а включают больше людей разных национальностей, возрастов, профессий, создавая тем самым более широкий спектр социальных сетей, ориентированных на экономические интересы.
В китайско-российской пограничной зоне функционирование торговых социальных сетей на географическом уровне реализуется в двух направлениях: китайцы сначала приезжают из своих родных городов на работу в Хэйхэ, занимаясь здесь розничной торговой деятельностью, а затем отправляются в Благовещенск в поисках возможностей для расширения масштабов своего бизнеса. Есть и такие предприниматели, которые сначала некоторое время работали в Китае, после открытия пограничных пунктов пропуска отправились в специальные зоны «Хуши» для ведения торговли с Россией, а затем вышли на Дальний Восток, чтобы продолжить осваивать его рынок. В этом процессе большинство китайских торговцев сначала переехали из сельской местности в пограничный город и сформировали внутрикитайские социальные сети, сосредоточенные на них самих. Накопив достаточно денег, они отправились на российский рынок, и в ходе международной миграции установили контакты с русскими, которые стали основой для трансграничных социальных сетей.
Формирование общественных связей через географические границы и их трансформация в социальный капитал – важная особенность современной приграничной китайско-российской миграции. За счет выстраивания и капитализации социальных сетей предприниматели налаживают двустороннее взаимодействие, что приводит к становлению «транснациональных социальных пространств» (У Цяньцзинь, 2004). В Благовещенске китайские торговцы заняты в различных сферах, таких как логистика, общественное питание, строительство, сельское хозяйство и т.д. Стремясь расширить масштабы бизнеса и увеличить объемы продаж, они активно взаимодействуют с русскими на всех уровнях и в определенной степени интегрируются в российское общество. Например, китайские предприниматели проявляют инициативу в изучении русского языка, берут себе русские имена и используют разговорную речь для общения с местными. Кроме того, в их гастрономических привычках произошла перемена, и степень принятия русской пищи постепенно растет. Что касается жилья, то с увеличением срока пребывания в России предприниматели один за другим покидают тесные китайские кварталы и перебираются в более комфортные места для проживания. В деловых отношениях некоторые китайские бизнесмены устанавливают тесное сотрудничество со своими российскими коллегами, а потом распространяют эти дружеские отношения на свою повседневную жизнь. Подобное взаимодействие носит двусторонний характер: россияне в процессе общения с китайцами также перенимают у них наиболее употребительные выражения, вводят их в свою речь, им начинает нравиться китайский чай, распространение получает философия фэншуй и так далее. Сказанное подтверждается результатами опросов китайских предпринимателей. Приведем один из ответов.
Кейс 3: мужчина, 32 года: «В бакалавриате я изучал русский язык в Хэйхэ, а после окончания университета приехал в Благовещенск и открыл магазин вместе с моим русским другом. Мы оба являемся деловыми партнерами и хорошими друзьями в жизни. Хотя иногда у нас бывают ссоры из-за бизнеса, это не влияет на наши отношения. Когда я только приехал в Россию, мне казалось, что русская еда довольно сытная и жирная, но, пожив здесь долгое время, я адаптировался к ней, например, к шашлыкам и борщу, которые мне теперь очень нравятся. Мой друг интересуется китайским фэншуй, и у нас на прилавке у входа в магазин стоит золотая жаба, которую он попросил меня ему привезти из Китая».
Создание социальных сетей современных мигрантов характеризуется открытостью и условностью, которые могут трансформироваться в зависимости от территориального размещения бизнеса. Социально-культурная среда, в которой живут мигранты, меняется, и, чтобы адаптироваться к этому, они должны корректировать имеющиеся социальные сети или даже конструировать новые. Традиционные родственные связи не имеют сильного влияния на этот процесс при переселении в другую страну, в то время как роль социальных сетей, созданных на основе общего значимого жизненного опыта, становится все более сильной (Янь Чжилань, 2011).
Трансграничный брак – один из особых способов расширения социальных сетей китайскими бизнесменами и одна из форм их адаптации к принимающему сообществу. У недавно переехавших в Россию на пограничные территории еще нет деловых связей или высокой академической квалификации, чтобы быть востребованными на зарубежном рынке труда, поэтому они предпочитают строить новые социальные сети через трансграничные браки, чтобы удовлетворить свои потребности в выживании и развитии и обеспечить свою интеграцию в местное общество. Практика показывает, что такой тип брака положительно сказывается на межнациональных отношениях на приграничных территориях Китая и России.
Кейс 4: мужчина, 45 лет: «Я познакомился со своей женой в 2005 г., когда занимался оптовыми продажами в Благовещенске. Вообще-то я не планировал жениться на русской девушке, но постепенно влюбился в нее, когда стал чаще с ней общаться, и в 2008 г. мы поженились. Она считает, что я трудолюбив и хорошо выгляжу. Когда мы только поженились, она не могла говорить по-китайски, но мой русский был в порядке, так что, в принципе, не было препятствий для ежедневного общения. Позже по моему настоянию она начала изучать китайский язык, и теперь в основном понимает живую речь. Она помогает мне во многих деловых делах, а если у меня возникают какие-то споры, она часто решает их за меня. Поскольку моя жена – русская, я получил российскую грин-карту для развития бизнеса, что очень удобно».
Кроме того, стоит отметить, что в последние годы с развитием сетевых информационных технологий трансграничная электронная коммерция стала важной тенденцией развития торговли Китая с Россией. В апреле 2020 г. Госсовет КНР одобрил создание комплексной пилотной зоны трансграничной электронной коммерции в Хэйхэ, что ускорило строительство производственных парков, значительно повысило эффективность таможенного оформления товаров и сократило расходы на логистику. С ростом популярности интернет-магазинов торговые онлайн-площадки преодолели временные и пространственные ограничения государственных границ, и теперь жители приграничных регионов Китая и России могут удобно и быстро покупать и продавать товары через Интернет. Китайские бизнесмены устанавливают стабильные контакты с российскими партнерами или клиентами через Сеть, осуществляют сделки в онлайн-режиме, их трансграничные социальные сети беспрецедентно расширяются на базе взаимного доверия, в то время как пространство, в котором значимы традиционные социальные сети, созданные на основе родственных или географических связей, значительно сужается.
Однако процесс взаимодействия приграничного населения двух стран неизбежно сопровождается пересечением и столкновением китайской и славянской культур, а различия в плане этикета общения, моделей поведения, религиозных убеждений, социальной психологии, ценностных ориентаций и т.д. часто приводят к возникновению определенных недоразумений или явлений отчуждения, что негативно сказывается на развитии трансграничных социальных сетей. Например, отношение благовещенцев к Хэйхэ отнюдь не однозначно: с одной стороны, это действительно излюбленное место отдыха и шоппинга приграничных жителей; с другой – среди русских наличествует оценка Хэйхэ как своего рода «потемкинской деревни», где за блестящим фасадом, подсвеченным со стороны набережной, скрываются грязь и хаос (Окунев и др., 2015). Под влиянием антикитайской пропаганды советской эпохи и злонамеренных спекуляций на почве «теории китайской угрозы» у некоторых жителей Дальнего Востока России сформировались стереотипы в отношении граждан Поднебесной. Наряду с этим некультурное и даже противоправное поведение некоторых мигрантов на Дальнем Востоке подтверждает такое мнение российской общественности и портит общий имидж китайского народа.
В свете сказанного жителям двух стран необходимо развивать толерантность, воспитывать в своей среде уважение к культурному разнообразию, а местным органам власти на приграничных территориях обеих стран следует, на наш взгляд, принять практические меры по формированию позитивного общественного мнения. Для того чтобы полностью изменить негативный образ китайцев в России, нужно, с одной стороны, усилить пограничный контроль и бороться с преступной деятельностью на границе и нелегальным бизнесом, ориентированным на ввоз в Россию некачественной продукции для продажи; с другой стороны, важно стремиться к повышению качества национального образования Китая (Ли Цзинъюй, Линь Цзин, 2012). Только так между жителями приграничных территорий Китая и России могут быть созданы по-настоящему стабильные трансграничные социальные сети и сформированы дружественные отношения на многие поколения.
Заключение . В настоящее время китайско-российские отношения переживают лучший период в истории, инициатива «Пояс и путь» продвигается последовательно в своем развитии, а российская стратегия «Поворот на Восток» открывает новые возможности для сотрудничества между народами двух стран. Постоянно развивающиеся трансграничные социальные сети, построенные предпринимателями, не только способствуют сохранению мира и стабильности в китайско-российском взаимодействии на сопряженных территориях, но и значительно ускоряют темпы роста «народной» торговли между двумя странами.
Для развития экономического сотрудничества России и Китая на приграничных территориях важно исходить из особого их статуса, динамично оценивать тенденции развития местной торговли и активно поощрять население обеих стран к созданию и расширению равноправных и дружественных социальных сетей, чтобы превратить китайско-российскую границу из милитаризированной зоны контроля в единое социально-экономическое пространство, способствующее взаимовыгодному сотрудничеству.
Список литературы К вопросу о зарождении и расширении социальных сетей китайских пограничных предпринимателей (на примере Хэйхэ и Благовещенска)
- Дацышен В.Г., Лу Ч. Хэйхэ и приграничные торгово-экономические отношения между СССР и Китаем // Общество и государство в Китае. 2020. Т. 50-1, № 34. С. 807–826. https://doi.org/10.31696/2227-3816-2020-50-1-807-826.
- Окунев И.Ю., Басова Д.В., Тисленко М.И. Особенности формирования идентичностей в ситуации пространственной инверсии (на примере Благовещенска и Хэйхэ) // Вестник МГИМО-Университета. 2015. № 6 (45). С. 86–92.
- Позняк Т.З. Миграционные режимы российско-китайской границы на Дальнем Востоке во второй половине XIX – начале XX в. // Известия Алтайского государственного университета. 2011. № 4-1 (72). С. 174–179.
- Симутина Н.Л., Рыжова Н.П. Экономические и социальные взаимодействия на трансграничном пространстве Благовещенск – Хэйхэ // Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. 2007. № 5 (135). С. 130–144.
- 费孝通。乡土中国、生育制度、乡土重建。北京,2011年,502页。= Фэй Сяотун. Сельский Китай, система рождаемости и сельская реконструкция. Пекин, 2011. 502 с. (на кит. яз.)
- 李靖宇、林靖。俄罗斯远东区域开发的中国移民问题探讨 // 西伯利亚研究。2012年。第2期。第19–26页。= Ли Цзинъюй, Линь Цзин. Изучение проблем китайской миграции в развитии Дальневосточного региона России // Сибирские исследования. 2012. № 2. С.19–26. (на кит. яз.)
- 文军。当代社会学理论。北京,2019年,344页。= Вэнь Цзюнь. Современная социологическая теория. Пекин, 2019. 344 с. (на кит. яз.)
- 吴前进。当代移民的本土性与全球化 // 现代国际关系。2004年。第8期。第18–24页。= У Цяньцзинь. Самобытность и глобализация в современной миграции // Современные международные отношения. 2004. № 8. С. 18–24. (на кит. яз.)
- 严志兰。跨界流动、认同与社会关系网络:大陆台商社会适应中的策略性 // 东南学术。2011年。第5期。第126–146页。= Янь Чжилань. Трансграничная мобильность, идентичность и социальные сети: стратегии социальной адаптации тайваньских бизнесменов в материковом Китае // Юго-восточные академические исследования. 2011. № 5. С.126–146. (на кит. яз.)
- Bian Y. Bringing Strong Ties Back in: Indirect Ties, Network Bridges, and Job Searches in China // American Sociological Review. 1997. Vol. 62, iss. 3. P. 366–385. https://doi.org/10.2307/2657311.
- Burt R. Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge, 1992. 324 p.
- Granovetter M. The Strength of Weak Ties // The American Journal of Sociology. 1973. Vol. 87, iss. 6. P. 1360–1380. https://doi.org/10.1086/225469.
- Lin Nan. Social Capital. A Theory of Social Structure and Action. Cambridge, 2002. 294 p. https://doi.org/10.1017/cbo9780511815447.