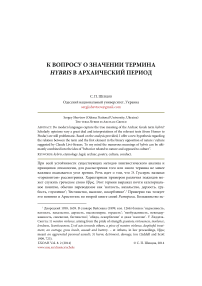К вопросу о значении термина hybris в архаический период
Автор: Шевцов Сергей Павлович
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.8, 2014 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи ставит вопрос о правомерности использования терминов современного языка для передачи архаического греческого термина hybris. Он рассматривает современные теории, истолковывающие значение данного термина, а также предлагает анализ употребления этого термина в архаической поэзии. На основе этого анализа он выдвигает гипотезу о близости рассматриваемого термина первому члену оппозиции, предложенной К. Леви-Строссом природа/культура. Согласно мнению автора, множество значений hybris могут быть объединены в значении ‘поведение, относящееся к природе, противостоящее культуре’.
Этимология, юридический, архаический, поэзия, культура, поведение
Короткий адрес: https://sciup.org/147103386
IDR: 147103386
Текст научной статьи К вопросу о значении термина hybris в архаический период
При всей устойчивости существующих методов лингвистического анализа и принципов этимологии, для рассмотрения того или иного термина не менее важным оказывается угол зрения. Речь идет о том, что Э. Гуссерль называл «горизонтом» рассмотрения. Характерным примером различия подходов может служить греческое слово ὕβρις. Этот термин выражал почти категориальное понятие, обычно переводимое как ‘наглость, нахальство, дерзость, грубость, глумление’; ‘бесчинство, насилие, оскорбление’.1 Примерно так толкует это понятие и Аристотель во второй книге своей Риторики. Большинство ис- следователей, затрагивавших этот вопрос, в той или иной мере согласно с подобным толкованием. Тем не менее, оно вызывает некоторые сомнения, особенно в отношении его применения в архаичный период.
Предложенные в качестве перевода термины выражают две возможные и существенно различающиеся модели поведения: по отношению к отдельному индивиду или небольшой группе (например, семье) и по отношению к обществу (миру) в целом. При этом суть модели остается неизменной: термин выражает осуждение поведения, противоречащее общепринятым нормам. Но в языках современного общества большинство из этих терминов предполагает ситуацию, когда тот, к кому они отнесены, ведет себя в среде равных так, как если бы он находился на более высокой ступени иерархической лестницы. Эти термины не применимы для характеристики отношений между представителями двух действительно различных слоев в обществе с реально существующей социальной иерархией. Точнее, в этом случае «наглостью» или «надменностью», «спесью» представлялась бы уже сама возможность оценивания с помощью рассматриваемых терминов поведения того, кто находится на более высокой ступени (в этом случае выразитель подобной оценки уравнивал бы себя с тем, кого он оценивает). Это вызывает сомнение относительно того, в какой мере такое значение может быть использовано для архаического общества, еще не достигшего радикальности сословного деления и не имеющего его в памяти языка и культуры. Вместе с тем остается неясным, когда подобные понятия возникают – в обществе социально однородном или в процессе расслоения первоначального равенства.
Этимология ὕβρις остается неясной.2 Часто его образование возводят к предлогу ὑπέρ (‘над’, ‘выше’, ‘сверх’ и т. д.), а Ю. Покорны вслед за Э. Бойсаком выдвигает версию о слиянии ὐ с предлогом ἐπί (‘на, у, при’ и др.).3 В этом случае наблюдается слияние предлога с корнем βρι-, восходящего к корню *gu(e)ri-‘тяжелый’.4 При таком толковании первоначальное значение может быть реконструировано как ‘лежащая (на чем-то) тяжесть; насилие; превышение меры’. П. Шантрейн считает такую этимологию неубедительной.5 Межъязыковые связи также проблематичны, возведение к санскритским или хеттско-лувитским корням в основном строится на близости значений.
В отношении значения термина ὕβρις существуют разногласия. Л. Гернет в 1917 году представил ὕβρις как своего рода «над-право (surdroit)»,6 сделав ак- цент на социологическом и юридическом аспектах, которые он положил в центр своего исследования. При этом он не отвергал и остальные, в том числе и современные, значения.7 Во многом аналогично понимал ὕβρις и Ж. Коман в своем исследовании творчества Эсхила. Он считает, что ὕβρις – это прежде всего превышение меры, разрушающее общую устроенность мира, превышение, неизбежно влекущее за собой наказание, в чем французский исследователь видел основную особенность мышления Эсхила. По его мнению, Ксеркс в Персах и Прометей в Прометее Прикованном представляют «описание наиболее волнующей hybris, чем <где-либо еще> в греческой античности» (Coman 1931, 121). Этого же направления придерживался и В. Йегер, полагая, что ὕβρις изначально относился к сфере права и выступал противоположностью δίκη (Йегер 2001, 540), а слово δίκη, по мнению Йегера, означало решение о возмещении ущерба и сам размер возмещения (там же, 139). По мнению немецкого ученого, религиозный смысл (святотатство, плеонексию по отношению к божеству) ὕβρις приобрел познее (там же, 212). Но анализ ранних употреблений ὕβρις говорит не столь однозначно в пользу такого истолкования.8 Иную позицию обосновал Дель Гранде, считавший именно религиозный смысл исходным и основным.9 В. Н. Ярхо, склонен видеть первоначальное значение (из представленных в архаичной поэзии) в указании на физическое превосходство (Ярхо 1967, 354), отмечая, что значение это с течением времени у разных авторов изменялось, получив существенное преображение у Эсхила (там же, 358). По мнению Д. Макдауэла, суть ὕβρις’а – в потакании наслаждению, порожденном избытком энергии. Бесчестье и позор совершенно для него не обязатель-ны.10 М. Дики полагал, что этот термин служил выражением чрезмерной самоуверенности и самонадеянности, которые следуют из отрицания ограниченности и зыбкости человеческого удела.11 Н. Фишер в своей обстоятельной работе, всецело посвященной ὕβρις, не склонен отдавать предпочтение той или иной особой сфере, но в целом относит его к сфере этики, со временем получившей правовое оформление.12
В ὕβρις действительно присутствует нарушение справедливости, но не любое, а обладающее специфическими чертами. Так, например, ὕβρις применяется к воровству или обману только в том случае, если нарушенными оказываются некие высшие (часто – негласные) нормы. Например, в Одиссее ὕβρις и родственные ему слова выступают как «постоянный эпитет» для характеристики женихов Пенелопы (из 13 употреблений 11 относятся к женихам), в Илиаде – дважды для характеристики поступка Агамемнона по отношению к Ахиллесу.
Слова Ахиллеса, обращенные к Афине (Il. 1, 202–203):
ппт’ айт’ aiYioxoio Aioq теко^ EiXqXouSaq;
^ iva vepiv iS^ AYa^e^vovo^ АтрЕСбао.
Зачем снова дочь щитодержца Зевса пришла ты?
Чтобы увидеть бесчинство Агамемнона, сына Атрея?13
И несколько позже ответные слова богини (213–214):
кa^ поте Toi тplq тоааа пapEaaEтal aYXaa бшра ивр1о^ ElVEкaтqaбE: au б’ I'axEO, пеЮео б’ q^iv.
Позже втрое больше ты получишь богатых даров за это [его] бесчинство, сдержись и повинуйся нам.14
Здесь, несомненно, ὕβρις применяется для характеристики поступка Агамемнона в отношении Ахиллеса. Отметим, что для характеристики дерзости, например, Терсита (0Epa^тn^) (Il. 2, 211-277) Гомер не употребляет этого термина.
В Одиссее , как уже отмечено, данный термин используется для характеристики поведения женихов Пенелопы. Из одиннадцати случаев применения данного понятия к женихам приведем несколько наиболее характерных. Вот слова Телемаха, обращенные к женихам (Od. 1, 368):
цптрб^ E^qq цvnaтqpEq vnEpeiov vepiv EXOVTE^^
Намеревающиеся жениться на моей матери, чрезмерно буйством одержимые…15
Эта конструкция vnEpeiov vepiv exovte^ (exouoi) (‘чрезмерно буйством охваченные’) будет встречаться в Одиссее еще не раз (Od. 4, 321; 16, 410), а также в краткой форме: ὕβριν ἔχουσι (Od. 16, 86), ὕβριν ἔχων (Od. 16, 418).
Другой пример – уже авторская характеристика занятий и поведения женихов (Od. 4, 625–627):
^vn^TqpEq 6е ndpoi0£v O6uaaqoq ^EYdpoio
6^aкoюlv TepnovTo Ka! aiYavE^aiv Ievte^ ev тиктф бапебш, o0i n£p ndpoq, vepiv exovte^.
Женихи перед дворцом Одиссея веселились, диски и копья бросая на ровной площадке, по своей привычке, буйством одержимые.16
Еще пример – слова самих женихов, осуждающих поступок Антиноя в отношении Одиссея, переодетого нищим странником (Od. 17, 485–488):
Ka^ te 0£oi ^£^voюlv eoikote^ dXXodanoim, navToioi teXeovte^, Ёпloтpwфwol noXnaq, ἀνθρώπων ὕβριν τε καὶ εὐνομίν ἐφορῶντες.
И боги в образе чужеземцев из разных далеких мест посещают города, чтобы наблюдать человеческие насилие (беззаконие, неправедность) и праведность.17
Отметим еще пример, на этот раз не связанный с женихами. Одиссей рассказывает о прибытии в Египет и характеризует действия своих спутников как ὕβρει (Od. 14, 262–265):
old’ vep£i £i^avT£^, Eniana^Evoi ^evei афф, al^a цаХ’ AiYuпт^wv dvSpwv nEpiKaXXeaq dYpov^ nop0Eov, ek 6e YuvaiKaq dYov ка! vqnia TEKva, avTov^ t’ ekteivov...
Они поддались буйству, соблазнившись своей мощью, тотчас принялись плодородные поля египтян опустошать, и уводили женщин и маленьких детей, тут же убивая мужей…18
Этот же рассказ воспроизводится и в песне 17 (431–434). При этом Одиссей, если позволительно строить догадки о его психологии и этике, осуждает не столько сам набег и действия своих спутников, сколько тот факт, что его спутники при этом поддались тому состоянию, которое он характеризует как ὕβρις.
Если сравнить употребление данного термина у Гомера в приведенных фрагментах19 с тем толкованием, которое он получает у Аристотеля в Риторике , то легко заметить различие в значениях. Аристотель поясняет данный термин следующим образом:
Видов пренебрежения три: презрение, самодурство и оскорбление (τρία ἐστὶνεἴδη ὀλιγωρίας, καταφρόνησίς τε καὶ ἐπηρεασμὸς καὶ ὕβρις)… (1378b14–15) Человек, наносящий оскорбление, также выказывает пренебрежение, потому что оскорблять значит делать и говорить вещи, от которых становится стыдно тому, к кому они обращены, и притом [делать это] не с той целью, чтобы он подвергся чему-нибудь, кроме того, что уже было, [то есть уже заключалось в словах или действии], но с целью получить самому от этого удовольствие. Люди же, воздающие равным за равное, не оскорбляют, а мстят. Чувство удовольствия у людей, наносящих оскорбление, является потому, что они, оскорбляя других, в своем представлении от этого еще более возвышаются над ними. Поэтому-то люди молодые и люди богатые легко наносят оскорбления: им представляется, что, нанося оскорбления, они достигают тем большего превосходства. Оскорбление связано с умалением чужой чести, а кто умаляет чужую честь, тот пренебрегает, ибо не пользуется никаким почетом то, что ничего не стоит – ни в хорошем, ни в дурном смысле (1378b23–30).20
В завершении этого рассуждения Аристотель приводит две цитаты из Илиады (Il. 1, 356; 9, 648), где как раз говорится о поступке Агамемнона по отношению к Ахиллесу и о чувствах последнего в связи с этим. Несомненно, что поступок Агамемнона рассматривался Ахиллесом как оскорбление, хотя трудно сказать, насколько со стороны царя Микен подобные действия служили для удовольствия и возвышения. Но едва ли данное значение уместно рассматривать в отношении Антиноя и других женихов Пенелопы. Возможно, что бесцеремонное и хищническое поведение их во дворе Одиссея еще может быть как-то объяснено стремлением подчеркнуть унизительность положения, как они считали, «вдовы» бывшего царя. Но совсем уж трудно рассматривать как оскорбление игры женихов, вроде метания диска или дротика. Здесь явно скрыто некое другое (по крайней мере, еще одно) значение ὕβρις, о котором Аристотель не говорит ничего. Так как Риторика подчинена в основном слову и его воздействию, то вполне естественно, что автор ограничивается «вербальным измерением» ὕβρις, но это не означает, что оно – единственное. Кроме то- го, Аристотель говорил о значении этого термина в современном ему языке, то есть на этапе развития как общества, так и языка значительно более позднем, чем эпоха формирования этого категориального понятия.
К сожалению, ранних фиксаций данного термина у нас совсем немного, как и вообще ранних текстов. Для детального изучения и реконструкции первоначального значения термина ὕβρις придется использовать тексты более поздней эпохи, пытаясь из разности значений установить первоначальное.
Это различие значений неоднократно отмечалось в литературе. Уже Дель Гранде21 собрал почти все случаи употребления ὕβρις в текстах архаического периода. В. Н. Ярхо уточнил, как он сам указывает, ряд аспектов, на которые итальянский исследователь не обратил внимание.22 Н. Фишер в третьей части своей работы предложил свой анализ фрагментов греческой поэзии с термином ὕβρις. Мнения исследователей, как уже отмечалось, расходятся. Представляется, тем не менее, что обобщающее значение для данного термина может быть найдено, при этом оно проясняет изменение в значении, которое отмечено для него в V веке.23 В рамках данной статьи мы ограничимся лишь самыми показательными примерами.
Употребление термина ὕβρις в Трудах и днях Гесиода сохраняет намеченное у Гомера значение. Но уже здесь возникает многозначность. Он употребляет его для характеристики второго (серебряного) поколения людей, где оно, как явствует из контекста, означает непризнание богов и отказ служить им (ст. 134–135),24 и чуть позже – для третьего (бронзового), на этот раз подразумевая их склонность к войне (ст. 145–146),25 и аналогично для людей, склонных видеть право в силе (ст. 191–193).26 Но далее Гесиод употребляет этот термин в наставлении своему брату Персу. Этот фрагмент достаточно основательно разобран В. Н. Ярхо, с которым можно согласиться во всем, кроме выводов. Исследователь совершенно верно отмечает, что в этой части в трех из четырех случаев употребления термин ὕβρις противопоставлен δίκη (ст. 213, 217, 238), «причем последний из названных стихов содержит отчетливую оппозицию: от
6е 6kaq... 6i6ovmv ISeLaq - olq 6’ ивр^ ЦфЕ-Е как^ (225 сл. 238)».27 Делая выводы об употреблении данного термина Гесиодом, В. Н. Ярхо поразительным образом забывает о первых двух случаях, когда он употреблялся для характеристики людей серебряного и бронзового поколения.28 Он отмечает, что словосочетание ἰδεῖαι δίκαι указывает на область суда и судебного производства и обозначает справедливый суд, а тем самым отсылает нас к идеальному, счастливому государству. Тем самым, по его мнению, противоположность отсылает к неправому суду и несчастного государства. Таким образом, ὕβρις будет выступать как разрушитель правильного государственного устройства и самой большой опасностью для современного Гесиоду общества. Такое понимание вполне оправдано в отношении Перса, обобравшего своего брата, после разорившегося и пришедшего к нему за помощью. Здесь не совсем уместно говорить о «надменности», «гордости дикой» или склонности к «насильщине». Однако общий вывод, который делает В. Н. Ярхо в отношении данного термина у Гесиода, представляется, с одной стороны, зауженным, и одновременно, с другой стороны, расширенным. По его мнению, гесиодовский ὕβρις относится к извращению судопроизводства и тем самым распространяется на всю общину, а не на поведение узкой группы племенных вождей. И в этом В. Н. Ярхо видит первую попытку этического осмысления действительности.29
Учитывая факт применения термина к поколению серебряных и медных людей, кажется заманчивым предположить, что, согласно Гесиоду, у каждого «поколения» свой ὕβρις, но материала для такого предположения недостаточно. Можно, однако, отметить, что Гесиод не меняет значение термина, а лишь распространяет его на сферу судебного производства. При этом выделенное В. Н. Ярхо значение можно понять и в том смысле, что ὕβρις характеризует не неправый суд, «кривосудье», а нечестивое, порочное поведение, которому как раз и должен противостоять правый суд и справедливое ведение судебного разбирательства. Другой вопрос, что Гесиод считает стороны взаимосвязанными так, что из-за порочного поведения одного гражданина божественному наказанию может быть подвергнут весь город, если вовремя не привлечет к суду виновного.
Фрагмент Архилоха (D 37; W 45) сообщает нам иное значение рассматриваемого термина:
κύψαντες ὕβριν ἀθρόην ἀπέφλυσαν
Перевод фрагмента вызывает у исследователей разногласия,30 но в интересующей нас части мнения близки. Автор отмечает, что противники (наклонившись или склонив головы или упершись головами друг в друга) струили мощным потоком ὕβριν. То есть в данном случае – силу, угрозу, определенный тип поведения.31
У Мимнерма также характерно использование этого термина. В сохранившемся фрагменте (D 12; W 9) автор рассказывает о переселении:
'H^eiq 6 ’ ainv ПиХои NnXqiov аоти XinovTEq i^epTqv Aa^nv vnudv аф1коцЕ0а, eq 6’ EpaTqv KоXофtova в^nv vnepnXov exovte^
eZo^eS’ apYaXsnq иврю^ HY£R6vEq 32
Эти строки Мимнерма послужили предметом различных толкований,33 но едва ли поэт вкладывает этическую составляющую в ивр^- Термин apYaXeoq (‘трудный, тяжелый; мучительный’) предполагает этическую составляющую только при современном его прочтении. По-видимому, именно он вызвал основные догадки толкователей, поэтому В. Н. Ярхо, отказывающему здесь термину ὕβρις в нравственной проблематике, приходится отнести «тягость» к туземным жителям, потерпевшим поражение.34 Но если предположить под ὕβρις не сравнительную характеристику военной силы, а некое состояние, вынуждающее действовать определенным образом (подобно «мужеству отчаяния»), то в этом случае смысл предстанет иным – то есть завоевали Колофон как те, кто «нес тяжкий ὕβρις», и «тяжесть» эта относится по крайней мере к обеим сторонам. Здесь, таким образом, ὕβρις – не «гордость», не «дерзость» и не «превосходство в силе», а состояние решимости переселенцев добыть себе землю любой ценой из-за отсутствия возможности возвратиться.
Термин ὕβρις присутствует также в дошедших фрагментах стихотворений Солона. Здесь его обычно связывают с общей гражданской и юридической позицией афинского законодателя, насколько она поддается реконструкции. Это оправдано, во-первых, в силу того, что часть стихов направлена на пояснение осуществленных Солоном реформ, а во-вторых, тем, что Солону приписывается введение особого закона о ὕβρις. Этому второму аспекту уделяет много внимания Ник Фишер в своем исследовании,35 но в силу того, что текст закона до нас не дошел, и его содержание является предметом реконструкции, в данном случае мы его рассматривать не будем. Отметим только несколько моментов.
Во-первых, Фишер при анализе закона о ὕβρις отстаивает идею о том, что речь идет о преступлении, которое точно соответствует определению ὕβρις, данному Аристотелем (действие «с целью оскорбить и причинить бесче-стие»).36 По мнению исследователя, такой закон занимал значительное место в сознании афинянами своей правовой системы,37 и предполагал «процедуры и штрафы, которые указывали на неодобрение сообществом подобного поведения, заключавшего в себе презрение по отношению к человеку, чести и гражданской личности другой персоны, а также презрение к общим ценностям – социальным, моральным и религиозным, что были прочно укоренены в обще-стве».38 Эта концепция Н. Фишера встретила достаточно серьезные возражения, замечания и уточнения. Иную концепцию данного закона предложил Ханс ван Вииз, по мнению которого этот закон относился не к материальному праву, то есть касался не конкретных преступлений, а устанавливал порядок возбуждения уголовного преследования, так называемого graphe.39 С другой стороны подошел к концепции Фишера Д. Л. Кернс: он считал, что английский профессор не вполне верно понял определение ὕβρις у Аристотеля, поместив его в иной контекст, чем тот, в котором он существует у греческого философа. Суть дела сводится к тому, что если Фишер трактует ὕβρις у Аристотеля как «специальные действия или поведение вообще, направленное против другой личности, скорее, нежели установка»,40 то Кернс отмечает, что у Аристотеля ὕβρις как раз направлен на выявление установки и с самого начала погружен в моральный и правовой контекст (не только в Риторике: 1378b14–30, но и в Никомаховой этике: 1149b20–35 и др.). По мнению Кернса, Фишер слишком мало внимания уделяет диспозициональному аспекту данного понятия, так как то, что позволяет характеризовать действие как ὑβριστής – не природа и не эффект поступка, а его мотив.41
В отношении анализа закона Солона о ὕβρις Н. Фишер допускает определенную методологическую неточность: он опирается на определение ὕβρις’а, данное Аристотелем, и одновременно следует описанию реформ Солона из Афинской политии того же Аристотеля (и Плутарха, тоже близкого Аристотелю). Это почти неизбежно ведет к тому, что толкование рассмотренных случаев представляет ὕβρις аналогично тому, как понимал его Стагирит во второй половине IV века, и это же понимание Н. Фишер распространяет на Солона, жившего в конце VII – начале VI в. до н. э., что представляется не вполне правомерным.
У Солона ὕβρις, как уже отмечалось, понимается в свете его реформаторской деятельности – как черта поведения богатых, как не знающая удержу алчность, как неудержимая погоня за богатством. При этом само стремление к богатству (ὄλβος) представлено как естественное и положительное качество. Солон явно противопоставляет богатство, нажитое в рамках установленных норм морали и права, богатству порочному (D 1. B 13. W 13):
пXovтov 6’ ov ^ev 6wai 0eou паpаY^YVEтаl dv6p^
ецпе6о^ ev vEdтou nuS^Evoq e^ кopuфqv• ov 6’ dv6pEq ^e^woiv иф’ ивРю^> ov ката Koa^ov
EpXETai, dXX’ d6koiq EpY^aai nEiSo^Evoq ovk eSeXwv ЕЛЕта1- тахеш^ 6’ dva^aYETai ат^
Если богатство [человеку] дают боги, [оно] приходит прочно от корней до вершин. Если люди [получают его] участием в насилии (ὕβριος), не только оно приходит недолжным образом, но и несправедливым делам следует против желания. Скоро влечет за собой безумие. 42
Обычно позицию Солона трактуют в том смысле, что естественное человеческое стремление к богатству (ὄλβος) превращается в ненасытность и завладевает человеком, что ведет его к несчастью (ἄτη). Отметим, что ἄτη – термин сложный, означающий как ‘безумие, одержимость; злодеяние’, так и ‘беду, пагубу’. Здесь есть соблазн представить мысль Солона так, что большое богатство, добытое нечестным образом, портит человека. Но это не совсем точно – даже более поздняя греческая классическая мысль еще не знала «диалектики души» или вообще преображения человека.43 Ничего подобного «ментальности», а тем более ее преобразования нельзя найти даже у авторов следующего века – например, у Софокла и Еврипида, и еще позже – в Характерах Феофра-ста. Едва ли можно говорить и о «естественной склонности» человека к богатству: богатство дают боги, хотя делают они это, возможно, с учетом деятельности самого человека. И в том же фрагменте мы можем видеть, что возмездие тоже приходит от Зевса (строки 11–25). Надо учитывать, что безумие (ἄτη) греки рассматривали как насланное по воле богов, а не как психическое состояние, обусловленное естественными причинами. Поэтому значения ‘безумие, одержимость’ и ‘беда, погибель’ не противостояли друг другу, а были разными сторонами одного и того же. Это же можно сказать и в отношении ὕβρις. Переводить его как «надменность» или «насилие» можно в современном контексте, но для греков здесь не было различия внутреннее/внешнее. С учетом сказанного отметим, что в изложенной выше полемике Н. Кернса с Н. Фишером первый прав, когда речь идет о понятии ὕβρις у Аристотеля, для которого мотив (как и вообще почти всегда целевая причина) важнее, чем просто характеристика поведения, но в отношении значения этого термина в архаической поэзии предпочтительнее выглядит позиция Н. Фишера.
В текстах Солона ὕβρις обычно помещают в ряд: ὄλβος – κόρος - ὕβρις, то есть богатство – чрезмерность – ὕβρις (по-прежнему оставим пока этот термин без перевода). Эта последовательность представлена в следующем фрагменте (D 5. B 8. W 6):
Τίκτει γὰρ κόρος ὕβριν, ὅταν πολὺς ὄλβος ἕπηται ἀνϑρώποισιν, ὅσοις μὴ νόος ἄρτιος ᾖ
Пресыщенность рождает хюбрис, когда когда богатство приходит к плохому людям с ненадлежащим умом.44
В.Н. Ярхо считает, что в данном случае слово ὕβρις уже может быть переведено как «надменность», «гордыня» и видит в этом нововведение Солона.45 Однако сомнительно, так ли это, ведь это означает, что Солон подошел к известному тезису «бытие определяет сознание» задолго до того, как возникло понятие о сознании, намного опередив всю классическую традицию. Учитывая приведенный выше фрагмент Солона (D 1. B 13. W 13), ряд можно было бы дополнить ἄτη или τίσις (‘воздаяние, возмездие, кара; пеня, штраф’) (ст. 25), но опять-таки это не следует понимать, как переход внешнего во внутреннее и обратно: нечестие – богатство – наглость (гордость) – воздаяние. Здесь скорее речь идет об определенном типе поведения, еще точнее – о выраженной в действии определенной позиции по отношению к другим членам сообщества. Дальше мы увидим, что является основной характеристикой такой позиции и, соответственно, поведения.
Заданная Солоном (или впервые дошедшая до нас в его текстах) последовательность будет воспроизводиться следующими поколениями. У Феогнида (ст. 153–154) мы находим почти дословное воспроизведение солоновского двустишия:
T^кт£l Toi к6poq vepiv, OTav какф oXeoq ennTai dvSpwnw, ка! otw ^fl vooq apTioq fl
Пресыщенность рождает хюбрис, когда плохое богатство приходит человеку, у которого негодный ум.46
Эта же последовательность может быть усмотрена и в так называемом гомеровском гимне к Аполлону (предположительно – конец IV в. до н. э.):
fle Ti Tnvoiov enoq eaaETai fle Ti EpYov ивр1^ 9’, fl 0e^iq eot'i кaтa0vnтtov dv0pwnwv^ (3, 539-541)47
В этом фрагменте приводятся слова Аполлона, обращенные к людям, – бог говорит их с улыбкой, чтобы подчеркнуть слабость человеческой натуры,48 и «последовательность речи Аполлона соответствует традиционной парадигме ὄλβος, ведущей к чрезмерности (κόρος), ὕβρις и финальному ἄτη, и соглашается с дельфийской максимой μηδὲν ἄγαν».49 По мнению Н. Ричардсона, ὕβρις и Qe^iq в этой строке сознательно противопоставляются и парадоксально соединяются, так как ивр1^ предстает как своего рода закон (Qe^iq) смертных.50 Нам важно отметить, что ὕβρις предстает как характеристика поведения, присущего исключительно смертным, но никак не богам. В силу этого сомнительно правомерность перевода как «гордости», «дерзости» и даже «наглости», а тем более «насилия» – типов поведения все же иногда присущих богам. Кроме того, ὕβρις неизбежно ведет к потере власти, как следует из дальнейшего текста.
В текстах Феогнида термин ὕβρις, кроме уже упомянутого случая, встречается неоднократно (строки 40, 44, 541, 603, 775, 835, 1103, 1174), но с точки зрения современного языка, этот термин обладает по крайней мере двумя значе- ниями: это то, что губит город (сообщество) изнутри и вместе с тем, губит его снаружи (как завоевание).51
Ovde^av пш, Kvpv’, ^а8о! noXiv &Xeaav dv6p£^
dXX’ бтav vвp^Zlv toioi какоТт абц, бqц6v te ф8£^pwal) 6kaq t’ d6koiai 6i6oaiv оlк£^wv K£p6£wv EivKa ка1 кратЕо^,
Ни один, Кирн, город хорошие мужи не погубили, это пресыщенные смутьяны разрушают страну, правосудие неправдой связывая для получения выгоды и власти (43–46)52
Здесь, несомненно, речь идет о разрушении изнутри. Но когда Феогнид обращается к богу с просьбой отразить aтpaтдv ^epiOT^v Mq6wv (775), «надменные полчища мидян» (В. Вересаев), то речь идет о том, что грозит городам извне; едва ли поэта беспокоит уровень нравственности войск мидян. В ряде случаев сохраняется двусмысленность:
Toia6£ ка1 MdYvnTaq dnwXEOEv EpYa ка1 ивр^> ola та vvv i£pqv t^v6e noXiv кат£х£1.
Те же действия и хюбрис, что истребили магнесийцев, происходят сейчас в святом этом городе (603–604)53
Здесь несомненно речь идет об определенном типе поведения, не сводимом ни к «надменности», ни к просто «насилию», а в чем-то соединяющем эти значения, но вместе с тем и отличным от каждого из них.
У Пиндара ὕβρις появляется в контексте основной темы его поэзии – ἀρετή (доблесть, славные деяния, высокое мастерство, слава, добродетель), понимаемой как вершина человеческого существа при соблюдении меры. В его песнях ὕβρις предстает как выход за пределы участи смертного, как притязание на большее, чем предполагает удел человеческий.54 Отсюда и особое отношение к соблюдению меры – καιρός.
Kaipoq. самый общий термин Пиндара для «посредничества» - того узкого пространства, в котором нечто не является ни слишком большим, ни слишком малым, но, согласно моменту, является o^iKpo^ ev o^iKpoi^, peyaq ev ^aXo^ (малый в малом, большой в большом; П[ифийские песни]. 3. 107) и таким образом принимает участие в обоих полюсах. Качественно, καιρός означает быть мягким среди мягких и твердым среди твердых. Как качественный Kaipo^, 'Houx^a (Тишина. - С. Ш .) противостоит ὕβρις, который является неспособностью определить, что является уместным в данных обстоятельствах, и, таким образом, стать посредником полярного напряжения (П. 8. 12–20).55
Эту связь у Пиндара между терминами 'Hovx^a и ивр1^ еще ранее отмечал М. Дики (Dickie 1984). В самом деле:
.. .Tpa\£ia 6ua^EV£wv
ὑπαντιάξαισα κράτει τιθεῖς
"Yepiv ev avTXw. Tav ov6s Пopфup^wv ^a0£v nap’ atoav £^£p£0^Zwv (12-13)56
Здесь ὕβρις характеризует поступок титана Порфириона, пытавшегося похитить богиню Геру. И так же охарактеризован Иксион, возжелавший сестру и супругу Зевса (П. 2.28). "Yepiq, воплощенный Порфирионом, не знает aloa (‘судьба, рок; предел жизни; законность, право’), тем самым нарушая οἰκεῖος (домашний мир добродетели, спокойствия, приличия).57 Иначе говоря, у Пиндара ὕβρις означает внесение разлада, стремление преодолеть границы отмеренного живому существу, посягательство на запредельное для него. Здесь уже вполне можно предположить как этический, так и религиозный и юридический смыслы. Но Пиндар использует термин ὕβρις и для обозначения поведения диких ослов, которых приносят в жертву Аполлону (П. X.36), и здесь, очевидно, едва ли можно говорить о перечисленных выше смыслах. Скорее следует предположить значение агрессивного и шумного поведения, присущего возбужденному животному – неуместного в человеческом сообществе, а потому и нарушающему установленные нормы, как юридические, так и моральные, и религиозные.
И в близком значении находим мы этот же термин у Ксенофана. В знаменитом фрагменте vvv Yap 6q Zan£6ov Ka8apov.(B 1. D. 1) автор говорит, что не будет ὕβρις’ом, если человек выпьет столько, что доберется домой один, без провожатого:
Здесь, вероятно, противопоставлено животное поведение – в том числе и не знающая меры жадность к вину – поведению человеческому, добродетельному, то есть осознание меры. И это значение совсем не укладывается «высокомерие», «наглость», «спесь» и определение Аристотеля, на которое опирается Ник Фишер.
То, что под «мерой» понимаются не только юридические и религиозные нормы, можно предположить из фрагмента, приводимого Плутархом (Plut. Mor . XII, 1, 2) (его относят как сомнительную цитату из Эмпедокла – D.154):
καὶ δύσιν ἔκρινεν, περὶ δ(ὲ) ἤγαγεν αὖθις ὀπίσσω καρποφόροισιν ἐπιστέψας καλυκοστεφάνοισιν " Dpaiq, YH S’ иврюто’^59
Здесь ὕβριστο’ означает не просто отсутствие меры, а скорее, дикость, отсутствие культуры, дифференциации.60 Если это высказывание действительно принадлежит Эмпедоклу, оно должно было быть высказано в середине – третьей четверти V в. до н. э. Как уже отмечалось, в V веке происходит изменение значения термина ὕβρις. Только к концу века это слово получает значение, выраженное в Риторике Аристотеля. Хотя приведенные здесь примеры далеко не исчерпывают всех известных случаев употребления ὕβρις, они, как представляется, наглядно свидетельствуют о наличии у этого термина иного значения, нежели зафиксированное Аристотелем.
Ключ к объединению значений может быть получен из совершенно иной области – антропологии. Для решения задачи следует обратиться к предложенной К. Леви-Строссом основной оппозиции архаичного общества: приро-да/культура. Здесь культура предстает прежде всего как наличие искусственно установленных норм, ограничивающих ряд действий членов сообщества. Эти ограничения могут касаться брачных отношений, форм приготовления и принятия пищи, отношения к членам общины и т. д. Можно со значительной до- лей уверенности сказать, что хотя подобные ограничения введены искусственно, они освящены в качестве установлений богов или направлены на демонстрацию того, что человек (община) «заслуживает» или соответствует получению от богов помощи. Культура в собственном смысле держится на тонкой грани норм-запретов, направленных на самые ключевые, а потому и самые уязвимые с точки зрения проявления в них природной склонности области человеческого поведения. Запреты должны касаться в первую очередь тех сфер, где природная склонность человека может получить безудержное развитие, и такое ограничение сохраняет целостность общины и дает ей определенные гарантии в поддержании ее существования. Искусственность введения этих норм получает свое выражение прежде всего в мифах (которые замечательно анализирует французский философ и антрополог), естественный характер подобных ограничений открыт только для исследователя, способного сопоставлять нормы различных сообществ и выстраивать типологию отдельной культуры или группы культур.
Если предположить, что ὕβρις изначально служил характеристикой поведения, соответствующего второму члену оппозиции – природе, и тем самым означал нарушение установленных норм, то мы получим возможность объединить все перечисленные выше его употребления в архаике. Такое поведение, потакание худшим склонностям в человеке, неизбежно ведет к разрушению сообщества, и здесь мы получаем возможность объединить характеристику поступка Агамемнона и женихов Пенелопы, первых двух поколений людей, согласно Гесиоду, с поведением его брата Перса, то, в чем видели угрозу Солон, Феогнид и Пиндар, а также предупреждение, сделанное Ксенофаном. Кроме того, в этом случае мы получим возможность проследить закономерность преобразования представлений о ὕβρις в соответствии с преобразованием самой греческой общины. Те значения, которое рассматривают Платон ( Leg . 884–885a) и Аристотель в Риторике (см. выше) явно направлены против участившихся случаев выделения себя из общины, противопоставления себя ей и отвержения ее норм как устаревших или нелепых. Начало же этого процесса, происходившее в совершенно иное время и в иной обстановке, напротив, находило одобрение в мышлении Феогнида и Гераклита. Например, «Один мне – тьма, если он наилучший (εἵς ἐμοὶ μύριοι ἐὰν ἄριστος ἦι)» (В 98), но вместе с тем: «Своеволие надо гасить пуще пожара (ὕβριν χρὴ σβεννύναι μᾶλλον ἢ πυρκαϊήν)» (В 102).61 Это изменение значения ὕβρις от Гомера и Гесиода до
Платона и Аристотеля получает свое объяснение в перспективе преобразования архаичных сообществ эллинов в форму классического полиса.
Список литературы К вопросу о значении термина hybris в архаический период
- Дуглас, М. (2000) Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу. Пер. с англ. Р. Г. Громовой. Москва: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле».
- Йегер, В. (2001) Пайдейя. Воспитание античного грека. Т. 1. Москва: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина.
- Ярхо В. Н. (1967) «К пониманию термина ὕβρις в древнегреческой поэзии архаического периода», Античное общество. Труды конференции по изучению проблем античности. Москва: 353-358.
- Boisacq, É. (1916) Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Heidelberg, Paris. Bossi, F. (1990) Studi su Archiloco. Bari: Adriatica Editrice.
- Cairns, D. L. (1996) “Hybris, Dishonour, and Thinking Big,” The Journal of Hellenic Studies 116, 1-32.
- Chantraine, Р. (1977) Dictionnaire étymologique de la langue grecque: Histoire des mots. T. IV. Klincksieck.
- Coman, J. (1931) L’idee de la Némésis chez Eschyle (Etudes d'Histoire et de Philosophie religieuse publiées par la Faculté de Théologie protestante de l'Université de Strasbourg, n° 26), Paris: Alcan.
- Dickie, M. W. (1984) “Hesychia and Hybris in Pindar,” Greek Poetry and Philosophy: Studies in Honour of Leonard Woodbury. Ed. D. E. Greber. Scholars Press: 83-109.
- Fisher, N. (1992) Hybris: A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient Greece. Warminster, England: Art&Phillips.
- Fisher, N. (2003) “The law of Hybris in Athen,” Nomos: Essays in Athenian Law, Politics and Society. Ed. by P. Cartledge, P. Millett. Cambridge University Press: 123-138.
- Gernet, L. (1917) Recherches sur le développement de la pensée juridique en Grèce ancienne [Republ. Albin Michel, 2001].
- Grande, C., del (1947) Hybris, colpa e castigo nell’espressione poetica e letteraria degli scrittori della Grecia antica da Omero a Cleante. Napoli: Riccardo Ricciardi.
- Hubbard, T. K. (1985) The Pindaric Mind: A Study of Logical Structure in Early Greek Poetry. Leiden: E. J. Brill.
- Liddell and Scott 1909 -Liddell and Scott’s Greek-English Lexicon Abridged [Republ: Simon Wallenberg, 2007].
- Lamberterie, Ch., de (1990) Les adjectifs grecs en -vç, sémantique et comparaison. Vols. 1-2. Louvain-la-Neuve: Peeters.
- McDowell, D. M. (1976) “Hybris in Athens,” Greece and Rome 23, 14-31. Meyer, L. (1901) Handbuch der griechischen Etymologie. Bd. 1-2. Leipzig.
- Philip, J. A. (1952) “Review of C. del Grande. Hybris. Colpa e castigo nell’espressione poetica e letteraria degli scrittori della Grecia antica da Omero a Cleante. Napoli, Riccardo Ricciardi, 1947,” The American Journal of Philology 73.4, 432-436.
- Pokorny, J. (1946-1956) Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. Lief. I-X. Bern.
- Perpillou, J.-L. (1987) “Grec ύ-pour ἐπι-: un préfIxe oublié?” Revue de Philologie 61, 193-204.
- Richardson, N. (2010) Three Homeric Hymns: To Apollo, Hermes, and Aphrodite. Cambridge University Press.
- Wees, H. van (2011) “The ‘Law of Hybris’ and Solon’s Reform of Justice,” Sociable Man: Essays on Ancient Greek Social Behaviour in Honour of Nick Fisher. Ed. by S. D. Lambert. Swansea: Classical Press of Wales: 117-144.
- West, M. L. (1974) Studies in Greek Elegy and Iambus. De Gruyter.
- Whitley, J. (2011) “Hybris and Nike: agency, victory and commemoration in Panhellenic sanctuaries,” Sociable Man: Essays on Ancient Greek Social Behaviour in Honour of Nick Fisher. Ed. by S. D. Lambert. Swansea: Classical Press of Wales: 161-192.