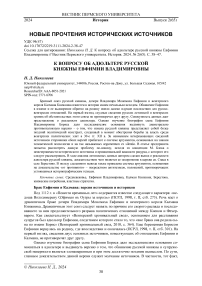К вопросу об адюльтере русской княжны Евфимии Владимировны
Автор: Николаева Н.Д.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Новые прочтения исторических источников
Статья в выпуске: 2 (65), 2024 года.
Бесплатный доступ
Брачный союз русской княжны, дочери Владимира Мономаха Евфимии и венгерского короля Калмана Книжника известен в истории своим печальным исходом. Обвинение Евфимии в измене и ее выдворение обратно на родину имело далеко идущие последствия для русско-венгерских отношений. На первый взгляд, скудные сведения русских летописей и венгерских хроник об обстоятельствах этого союза не противоречат друг другу. Совокупность данных дает представление о реальности адюльтера. Однако изучение биографии сына Евфимии Владимировны Бориса дало исследователям основания выдвинуть диаметрально противоположную версию - о том, что измена русской княжны представляет собой более поздний политический конструкт, созданный в момент обострения борьбы за власть среди венгерских политических элит в 30-е гг. XII в. За неимением исчерпывающих сведений источников сторонники обеих версий прибегают к системе аргументов, основанных на знании человеческой психологии и на так называемых argumentum ex silentio. В статье предпринята попытка рассмотреть данную проблему по-новому, исходя из концепции М. Блока о неисчерпаемости исторического источника и принципиальной важности ракурса, с которого его следует рассматривать. В ходе анализа летописных данных автором сделан вывод о реальности адюльтера русской княжны, доказательством чего является ее захоронение в церкви св. Спаса в селе Берестово. В пользу сделанного вывода также приведена система аргументов, основанная на доказательстве «от противного» - посредством антитезисов, положений, противоречащих устоявшимся историографическим тезисам.
Средневековье, евфимия владимировна, калман книжник, берестово, княжеские погребения, властные стратегии
Короткий адрес: https://sciup.org/147246535
IDR: 147246535 | УДК: 94(47) | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-2-38-47
Текст научной статьи К вопросу об адюльтере русской княжны Евфимии Владимировны
Брак Евфимии и Калмана: версии источников и историков
Под 1112 г. в «Повести временных лет» содержится известие следующего характера: «ве-доша Володимерьну Ѡфимью въ Оугры за королѧ» (ПСРЛ, 1998, т. II, стб. 273). Речь идет о драматичном браке дочери Владимира Мономаха Евфимии и венгерского короля Калмана Книжника. Драматичным этот союз следует назвать по причине его скорого распада и последовавшего за ним продолжительного разрыва политических отношений между Киевом и Фехер-варом. Как свидетельствует «Венгерский хроникальный свод», основанием для расставания супругов был адюльтер Евфимии, следствием которого стало то, что «вне брака она родила сына по имени Борис» (Венгерский хроникальный свод, 2010, с. 364). Еще беременная Борисом Евфимия вернулась на родину, где впоследствии и скончалась (ПСРЛ, 1998, т. II, стб. 301). На первый взгляд, сведения двух основных источников, повествующих об отношениях Евфимии и Калмана, не противоречат друг другу.
Однако изучение биографии сына Евфимии Бориса дало исследователям основания сомневаться в адюльтере и выдвинуть версию о том, что обвинение русской княжны в супружеской неверности является злонамеренным и при этом достаточно поздним вымыслом. По сути, главным доказательством данной версии служит молчание источников. В частности, тот факт,
что ни один хронист за пределами Венгрии – ни современник событий, ни более поздний – не пишет о незаконнорожденности Бориса [ Толочко , 2017, с. 102; Юрасов , 2017, с. 165]. С. П. Розанов (с которым впоследствии солидаризировались П. П. Толочко [ Толочко , 2017, с. 103] и М. К. Юрасов [ Юрасов , 2017, с. 162]) пришел к выводу о том, что представление о незаконнорожденности сына Евфимии как сугубо политический конструкт появилось тогда, когда Борис предъявил права на венгерский трон – в 1131 г. В этот год в Венгрии скончался сын Калмана Книжника король Иштван. Он был бездетным, в связи с чем в стране встал вопрос о наследнике престола. Это дало Борису шанс предъявить свои права на венгерскую корону, а венгерской знати, не входившей в «партию» Калмана, – сконструировать версию об адюльтере матери Бориса Евфимии Владимировны [ Розанов , 1930, с. 593].
В поддержку тезиса о том, что сведения о прелюбодеянии русской княжны появились гораздо позднее разрыва супругов, были приведены даже аргументы, связанные с психологией. К примеру, С. П. Розанов восклицал: «Как возможно, чтобы Евфимия […] в чужой стране, в первые же месяцы своего брака завела себе любовника? Это психологически недопустимо» [Там же, с. 589]. Историк рассуждал о том, что над Евфимией довлел авторитет отца, в связи с чем княжна не могла допустить каких-либо оплошностей в своем поведении, не говоря уже об измене [Там же].
При этом аргументы, связанные с психологией, приводятся и в защиту противоположного тезиса – о том, что Евфимия была все же виновна: она изменила законному супругу и справедливо, с точки зрения средневековой морали, была отправлена на родину. Так, А. С. Ищенко со ссылкой на венгерского хрониста XV в. Яноша Туроци рассуждает о том, что сближению Калма-на и Евфимии мешали сильная разница в возрасте между супругами, болезни венгерского короля и, наконец, его непривлекательная внешность [ Ищенко , 2022, с. 120]. В защиту тезиса о реальности адюльтера Евфимии, как и в случае с противоположной точкой зрения, историком использована система аргументов, основанная на вопросе «о чем источники молчат?» (argumentum ex silentio). А молчат они – причем и венгерские, и русские – о какой бы то ни было реакции на высылку Евфимии на родину со стороны ее отца Владимира Мономаха. Ее отсутствие выглядит резонансом на фоне ревностного отношения князя к фамильной чести [Там же, с. 119].
Итак, сторонники противоположных версий – о реальности и вымышленности адюльтера Евфимии ‒ используют аналогичную систему аргументации. Во-первых, это доказательства, основанные на знании психологии. Они представляются важными, но, как совершенно справедливо заметил М. К. Юрасов, «строятся на весьма зыбких основаниях» [ Юрасов , 2017, с. 161]. Во-вторых, это акцентирование внимания на argumentum ex silentio. Но так ли молчат источники? Как некогда написал М. Блок, в исторических свидетельствах внимание исследователя «преимущественно привлекает уже не то, что сказано в тексте умышленно. Мы гораздо охотнее хватаемся за то, что автор дает нам понять, сам того не желая» [ Блок , 1986, с. 38]. Быть может, выражая солидарность с положением исследователя о том, что «исторический источник в принципе неисчерпаем, ‒ его познавательные возможности зависят от способности историков вопрошать их по-новому, подходить к ним с тех сторон, с которых ранее их не изучали» [Там же, с. 204], из весьма скудных свидетельств о судьбе Евфимии можно почерпнуть информацию, которая сможет пролить свет на обстоятельства несчастного союза русской княжны и венгерского короля?
Судьба Евфимии: о чем еще расскажет летопись?
Помимо сообщения о браке княжны с венгерским королем, в летописании есть сведения о смерти Евфимии. Лаврентьевская летопись в сообщении под 1138 г. содержит уточнение о месте ее захоронения: «В то же лѣт̑ престависѧ Єоуфимья Володимерна и положена бъıс̑ на Бе-рестовѣмь оу ст҃го Сп҃са» (ПСРЛ, 1926–1928, т. I, стб. 305).
Историками уже не раз была высказана идея о том, что места погребений представителей христианских правящих династий средневековой Европы являлись символически значимыми объектами [Бойцов, 2003; Кежа, 2022; Федонников, 2017]. Данные захоронения свидетельствовали о властных стратегиях, «связанных с идентификацией (самоидентификацией) отдельных князей как представителей правящего рода» [Кежа, 2022, с. 16]. В связи с этим христианских государей было принято хоронить в тех храмах и монастырях, на вечное молельное заступничество которых перед Господом покойный имел право рассчитывать [Бойцов, 2003, с. 369]. Это могло быть возможным в двух случаях: если усопший их построил или внес весомый вклад в благоустройство и если церковь или монастырь уже заботились о душах умерших, к ветви которых принадлежал преставившийся правитель (что также предполагало материальное участие в жизни организации живых представителей рода).
Еще одна тенденция, которую исследователи выделяют как для западноевропейской, так и для византийской традиции, состоит в том, что «государственные некрополи» как четко отведенное место для захоронений всех представителей династии не сформировались в последовательную систему. Это, собственно, и было связано с организацией каждым правителем новых культов или поддержкой уже существовавших, которые формировали личную связь правящей особы с конкретным святым [ Федонников , 2017, с. 94].
Охарактеризованные выше суждения весьма справедливы и для представителей династии Рюриковичей. Они являлись ктиторами церквей и монастырей, представлявших собой, по меткому выражению Я. Н. Щапова, «аристократические закрытые организации для отправления религиозных нужд княжеской семьи» [ Щапов , 1989, с. 133]. Как и в случае с европейским опытом, у Рюриковичей не было единой системы захоронений. Ни Десятинная церковь, построенная князем-крестителем Владимиром Святым, ни святая София Киевская, возведенная Ярославом Мудрым и повторяющая византийскую одноименную святыню, не стали теми самыми «государственными некрополями». Чем более ветвился род Рюриковичей, чем сильнее были процессы децентрализации Руси и потребность в обосновании властных претензий каждого правителя династии, тем сложнее становилась система княжеских захоронений.
На первый взгляд, в логику повествования о системе княжеских погребений и месте захоронения Евфимии Владимировны должно вмешаться кажущееся очевидным суждение о том, что с механизмами демонстрации властных претензий христианских правителей эпохи Средневековья связаны непосредственно мужчины. Очень метко о функции мужской линии в правящей династии пишут А. Ф. Литвина и Ф. Б. Успенский: «В родовой традиции мужчины, несомненно, являются основообразующим и несущим в себе функцию стабильности, преемственности звеном» [ Литвина , Успенский , 2006, с. 240]. Однако эти же исследователи, изучая онома-тискон Рюриковичей, пришли к весьма справедливому выводу о том, что женщины играли не меньшую роль во всех означенных выше процессах. И если мужская линия отвечала за стабильность рода, то женская посредством матримониальных союзов реализовывала функцию подвижности, обновления, внешних связей в родовой традиции [Там же, с. 406]. Брак был важнейшим элементом установления связей между династиями или далеко разошедшимися ветвями семейства, в связи с чем одна из важнейших функций именования княжны состояла в передаче в род ее мужа «информации» о роде ее отца [Там же, с. 256–257].
Учитывая все вышесказанное, сложно сомневаться в том, что женские захоронения не выпадали из логики властных стратегий правящих элит. В качестве примера можно привести женщин из семьи Всеволода Ярославича. Его вторая жена и дочь Янка с разницей в год (в 1111 и 1112 гг.) нашли свое последнее пристанище в Андреевском монастыре. Еще одна дочь князя, Евпраксия, в 1109 г. была погребена в Киево-Печерской обители. Уже даже сам факт того, что в кратчайший промежуток времени – с 1109 по 1112 г. – женщины из одной ветви рода Рюриковичей были похоронены в разных монастырях, наталкивает на мысль об определенной логике, которой руководствовались представители династии. Захоронения жены и дочери Всеволода в Андреевском монастыре, очевидно, связаны с тем, что эта организация появилась благодаря князю, была названа в честь его святого патрона, т.е. была четко соотнесена с линией Ярославичей-Всеволодовичей. Более того, сама Янка Всеволодовна внесла значительнейший вклад в развитие монастыря, создав еще один символический контекст, связавший линию рода ее отца и Андреевский монастырь. Более того, тезис об отнюдь не случайном погребении Ев-праксии Всеволодовны в Киево-Печерском монастыре уже звучал в исторической науке. Х. Рюсс, к примеру, предположил, что ее захоронение стало исполнением воли отца, который в последние годы жизни склонялся к так называемому «национальному» духовенству, в первую очередь представленному братией Киево-Печерской обители [Рюсс, 2010, с. 107].
Иными словами, в системе женских захоронений прослеживается логика, напрямую связанная с политико-идеологическими амбициями представителей ветви Рюриковичей, к которым непосредственно либо опосредованно (через брак) относились княгини и княжны, и (или) с их прижизненными деяниями.
Берестовский монастырь в системе погребений Мономашичей
Система княжеских погребений ветви Мономашичей весьма красноречиво демонстрирует все означенные тенденции. Захоронения Святослава (ум. в 1114) и Андрея (ум. в 1141) Владимировичей в главном соборе Переяславля – Архангела Михаила – объяснимы тем, что оба брата скончались в этом родовом «имении» Мономашичей и на момент своей смерти являлись действующими князьями переяславскими. Похороны (а точнее – перезахоронение) Изяслава Владимировича (ум. в 1096) в Софии Новгородской лишь на первый взгляд представляются странными. Перезахоронение этого князя в Новгороде аргументированно объяснил Ю. Н. Кежа [ Кежа , 2022, с. 28–29]. Изяслав погиб в 1096 г. в соперничестве за Муром с Олегом Черниговским и изначально был похоронен в местном храме. Покусившись на земли Олега, Изяслав добровольно ушел из принадлежавшего ему Курска и на момент своей смерти уже не был князем курским и при этом занимал Муром незаконно. Вероятно, по причине отсутствия на момент смерти у Изяслава легитимного владения его брат Мстислав похоронил князя в тех землях, которые сам занимал на тот момент – в Новгороде.
В большинстве киевских захоронений Владимировичей также прослеживается вполне обоснованная логика. В соборе Святой Софии, помимо самого Владимира Мономаха, был погребен его сын Вячеслав (ум. в 1154) как старший представитель рода, скончавшийся в статусе великого князя. В соборе св. Федора нашел последнее пристанище Мстислав Владимирович, скончавшийся в 1132 г. Место захоронения очевидным образом связано с патроном Мстислава св. Федором1, в честь которого князем, вероятно, и была заложена церковь (ПСРЛ, 1926–1928, т. I, стб. 299; ПСРЛ, 1998, т. II, стб. 293). В Андреевском монастыре был похоронен Ярополк Владимирович, скончавшийся в 1139 г. На момент смерти князя Андреевский монастырь уже имел внушительную историю, непосредственно связанную с родом Всеволодовичей.
Больше всего вопросов как раз таки вызывают захоронения в Спасо-Преображенском монастыре, где были упокоены не только Евфимия Владимировна, но и сын Мономаха Юрий Долгорукий (ум. в 1157). Говорить о соотнесении этого монастыря с патрональными святыми Евфимии или Юрия не приходится, равно как и о том, что это место имело связь со Всеволодо-вичами-Мономашичами в нескольких поколениях.
Для прояснения ситуации следует обратиться к известиям о селе Берестово и его сакральных постройках. Впервые оно упомянуто в летописи под 980 г., где сказано, что князь Владимир Святой держал там 200 своих наложниц. Именно в Берестове в 1015 г. Владимир умирает, и там же разворачивается летописная драма с утаиванием его смерти от бывшего на тот момент в Киеве Святополка Окаянного. При этом уже в известии 1015 г. указано, что для тайной отправки тела Владимира в церковь Святой Богородицы в Берестове разобрали помост между клетями (ПСРЛ, 1926–1928, т. I, стб. 115). Это, как весьма убедительно показал И. О. Попов, свидетельствует о наличии в Берестове княжеской резиденции, где клеть, вероятно, представляла собой летнюю спальню [Попов, 2000, с. 400]. Еще один аргумент, подтверждающий тезис о Берестове начала XI в. как весьма значимом для киевского князя месте, выдвинул М. К. Каргер. Он указал на то, что Владимир Святославич скончался во время подготовки к походу на Новгород против сына Ярослава. Это обстоятельство, как считал историк, свидетельствует о том, что «Берестовский двор в эту пору отнюдь не был местом для “загородного отдыха князя”» [Каргер, 1958, с. 273]. Спустя 36 лет, в 1051 г., Берестово появляется на страницах летописи как «любимое сельцо» князя Ярослава, в котором уже есть церковь Святых Апостолов (ПСРЛ, 1998, т. II, стб. 144). Из летописного текста 1072 г. мы узнаем, что в Берестове есть монастырь Св. Спаса с игуменом Германом во главе (Там же, стб. 171). Наличие мона- стыря – еще один важный аспект в истории развития Берестова как княжеской резиденции. Исследователями уже не раз показано, что довольно часто сакральные постройки располагались вблизи нее либо являлись ее составной частью [Гайденко, 2016, с. 380; Попов, 2000, с. 405].
О том, что эта резиденция уже ко второй половине XI в. представляла собой надежное, укрепленное и значимое для политических элит место, красноречиво свидетельствует летописное известие о князьях-триумвирах 1073 г. Согласно ему, в Берестове есть княжеский стол, на котором утвердились Святослав и Всеволод, нарушив отцовское завещание – выступив против старшего брата Изяслава. Крайне симптоматично, что здесь киевский стол фактически отождествлен с берестовским: «Ст҃ослав же и Всеволодъ внидоста в Кыєвъ мс̑ца марта вь к҃в и сѣдоста на столѣ на Берестовомъ преступивша заповѣдь ѡтн҃ю» (ПСРЛ, 1998, т. II, стб. 172). Вероятно, памятуя о недавних беспорядках в Киеве 1068 г., а также о том самом преступлении «отней заповеди», Святослав и Всеволод предпочли утвердиться сначала в загородной резиденции, и только по прошествии некоторого времени «Ст҃ославъ сѣде в Кыєвѣ» (Там же, стб. 173). В эту канву встраивается и захоронение тестя Святополка Изяславича Киевского в районе села Берестово в 1096 г. (Там же, стб. 222). Женой Святополка была половчанка, отец которой – Тугоркан – осадил Переяславль. Его похоронили по языческому обычаю – на перекрестке двух дорог – в месте, которое укреплено и безопасно (на случай волнений, которые вполне могли возникнуть из-за двоякого положения усопшего: он родственник князя и язычник, покусившийся на русский город одновременно).
Наконец, в 1113 г. в Берестове появляется Владимир Мономах. Именно здесь он принимает свой устав в разгар киевских беспорядков. Вероятно, он руководствовался все той же логикой безопасного места, что и его предшественники. При этом, в условиях усиливавшейся децентрализации, Мономах постарался еще больше укрепиться в этой загородной резиденции, прибегнув к символическим средствам. Ко времени политической активности Владимира относится возведение церкви Св. Спаса [ Раппопорт , 1993, с. 46], в которой впоследствии и будет похоронена его дочь, а затем – сын. Исследователи не без оснований видят в возведении новой церкви символический смысл: этим Владимир сделал Спасский монастырь своим родовым [ Щапов , 1989, с. 141].
Таким образом, церковь Св. Спаса, равно как и сам монастырь в селе Берестово, для ветви Мономашичей связан непосредственно с фигурой самого Владимира. Мономах, будучи хорошим стратегом, осознавал историческую значимость села и его сакральных построек, связанную как минимум с двумя знаковыми фигурами в династии Рюриковичей – Владимиром Святым и Ярославом Мудрым. Также он не мог обойти и прагматическую сторону вопроса – хорошую укрепленность загородной резиденции, что давало возможность маневра в случае политической нестабильности в самом Киеве.
При этом остается открытым вопрос о том, почему именно двое детей Владимира – Юрий и Евфимия – нашли свое последнее пристанище в церкви Святого Спаса. О судьбе Евфимии в последние годы жизни нам ничего неизвестно, чего нельзя сказать о Юрии Долгоруком. Он умер в статусе великого князя киевского. Однако по каким-то причинам князь не был похоронен, как Вячеслав Владимирович, скончавшийся всего лишь тремя годами ранее, в Святой Софии. Не нашел Юрий, по аналогии с Мстиславом Великим, своего последнего пристанища в организациях, посвященных своему святому патрону – Георгию. Как следует из всего предшествующего рассуждения, ключ к разгадке следует искать в политической деятельности князя. Начать следует с обстоятельств смерти Юрия и событий, незадолго до нее произошедших.
Итак, Юрий Долгорукий умирает в Киеве 15 мая 1157 г. И в этот же день в городе начинается мятеж, сопровождавшийся избиением суздальцев и разграблением княжеского двора (ПСРЛ, 1998, т. II, стб. 489). Исследователи, анализируя политическую биографию Юрия, уже не единожды подчеркивали, что этот князь не имел поддержки среди киевлян и опирался на суздальцев, пришедших с ним столицу. Как справедливо заметил А. Ю. Карпов, даже пир, состоявшийся практически накануне смерти князя, был организован не у киевского воеводы или тысяцкого, а у «осмянника» Петрилы, занимавшегося сбором торговых пошлин в пользу Юрия. Именно политика князя, нуждавшегося в крупных суммах для того, чтобы сохранить за собой киевский стол и нейтрализовать агрессивные намерения своих противников, послужила причиной применения жестокой практики посмертного разграбления имущества князя и его властных элит [Карпов, 2006, с. 362]. Обстоятельства смерти князя – народные волнения на фоне недовольства политикой Юрия и его приспешников – очевидно, наталкивают на мысль о том, что похороны в Берестове были обусловлены логикой безопасности и укрепленности там княжеской резиденции. Тем более, что в историографии уже не раз высказывалась мысль о возможном отравлении Юрия на пиру в результате заговора (по сей день эта версия не получила однозначного подтверждения или опровержения2). Крайне примечательно в рассматриваемом контексте еще одно обстоятельство.
В церкви Св. Спаса, помимо двух детей Мономаха, похоронен внук (а также, по совместительству, сын Юрия Долгорукого) Глеб. На первый взгляд, смерть в Киеве Глеба Юрьевича, датированная в Ипатьевской летописи 1173 г., абсолютно отлична от описания кончины отца: «престависѧ бл҃говѣрны кнѧзь […] братолюбець кь кому любо крс̑тъ цѣловашеть то не ступа-шеть его и до смр҃ти бѧше же кротокъ бл҃гонравенъ манастырѣ любѧ чѣрнѣцькии чинъ чс̑тѧше» (ПСРЛ, 1998, т. II, стб. 563). Однако по каким-то причинам тело благоверного князя пришлось спрятать (Там же, стб. 564). А позднее Андрей Юрьевич будет требовать от Ростиславичей, представитель которых утвердился в Киеве, выдачи киевлян – отравителей брата (Там же, стб. 569). Два последних известия очевидно диссонируют с первым. Стоит отметить, что у киевлян были все основания для претензий к Глебу: это разорение Киева в марте 1169 г., в результате которого в городе и утвердился Глеб; ужасам этих событий посвящен целый летописный абзац (Там же, стб. 545). Более того, вскоре Глеб вновь подверг киевские территории разорению. В 1172 г. на Руси появились две группы половцев, предложивших князю заключить с ними союзы. Часть степняков двинулась в сторону Переславля, часть – в сторону Корсуни. Глеб принял решение сначала ехать к той группе, которая находится под Переяславлем (Там же, стб. 555). Половцы, находившиеся у Корсуни, не стали ждать, пока Глеб «оумирѧсѧ» с пе-реяславльской группой, а предпочли направиться в грабительский поход к Киеву. Во всех этих обстоятельствах нельзя не увидеть параллели с обстоятельствами политической деятельности, смерти и похорон отца Глеба Юрия.
Таким образом, в церкви Святого Спаса в селе Берестово похоронено три представителя династии Мономашичей. Из них два, Юрий и Глеб, окончив свою жизнь в статусе киевских князей, но имея крайне сложные отношения с местными жителями, не нашли последнего пристанища в главных святынях, связанных с родом. Логика их захоронений объясняется соображениями безопасности, ведь Берестово к XII в. уже обладало сформированным статусом укрепленной княжеской резиденции, где вершились основные политические события в случае неспокойствия в самом Киеве. Похороны Евфимии Владимировны в церкви, возведенной там ее отцом, встраиваются в данную систему лишь в том случае, если эта представительница рода совершила нечто неприемлемое в понимании русского средневекового общества – адюльтер. В эту логику встраиваются и молчание русских летописей о какой бы то ни было реакции Владимира Мономаха на развод дочери с Калманом, и невнимание летописцев к персоне сына Евфимии Бориса (о чем еще будет сказано ниже).
В дополнение к вышесказанному: рассуждения а contrario
В подтверждение тезиса о реальности адюльтера Евфимии можно привести еще несколько аргументов, обратившись к биографии сына Евфимии Бориса. На политическом горизонте Венгрии его фигура возникла во время династического кризиса 30-х гг. XII в. Тогда-то, как считает ряд исследователей, и появилась версия о незаконном рождении Бориса. Однако попробуем порассуждать, что называется, а contrario.
Если принять за верное означенное выше суждение, то получается, что на момент высылки Евфимии на родину и рождения Бориса никто особенно не сомневался в отцовстве Калмана. При этом, как уже было ранее замечено, Мономах по какой-то причине не предпринял никаких действий против Калмана Книжника. Ведь король, по сути, отказался от собственного сына, наследника венгерского престола [ Ищенко , 2022, с. 119]. Стоило бы также добавить, что и дядя
Бориса, Мстислав Владимирович, перенявший киевский стол от отца, не оказывал помощи племяннику и, вероятно, даже не стал препятствовать его отправке в Византию вместе с опальными полоцкими князьями примерно в 1129–1130 гг. [ Юрасов , 2017, с. 76].
Примечательно, что и в Венгрии в это время о Борисе особенно не вспоминали. Бездетный король Иштван, ища кандидатуру для передачи венгерского престола, почему-то приблизил ко двору своего опального племянника Белу – сына принца Алмоша, ослепленного по приказу Калмана Книжника еще в детском возрасте и долгое время жившего в монастыре. При этом до появления Белы в качестве потенциального кандидата на престол был определен сын сестры Иштвана, Саул: «После короля будет править сын его сестры Софии Саул» (Chronici Hungarici compositio saeculi XIV, 1937, p. 444). И почему-то о Борисе как о претенденте на венгерский престол никто не вспомнил. Хотя именно Борис, если принимать идею о позднем происхождении версии о его незаконном рождении, был наиболее близок к Иштвану: он являлся его родным братом по отцовской линии.
При этом фигура Бориса совершенно точно появляется в 1132 г. – после собора в Араде, где произошло избиение венгерской знати, учиненное не столько новым королем Белой Слепым, сколько его женой Еленой, мстившей за ослепление ее супруга. Именно этот собор стал яркой иллюстрацией противостояния двух группировок венгерской знати – сторонников ветви Калмана Книжника и сторонников ветви Алмоша. Приход к власти сына последнего создавал очевидную угрозу для «партии» Калмана. И вряд ли в сложившейся ситуации случайно то, что именно в 1132 г. происходит столкновение войск Бориса Калмановича с войсками Белы II на р. Шайо. Представляется логичным то, что в этот год была актуализирована история Бориса, но не в плане формирования версии о его незаконном происхождении, а, скорее, наоборот – о том, что он все-таки сын Калмана Книжника. В этом случае вполне логичным выглядит сообщение Каноника Вышеградского, который ссылается на божественное провидение, не позволившее Борису занять венгерский престол: «Его-то [Бориса. – Н. Н .] князь Польши и хотел поставить во главе венгров, но божественное провидение разрушило его намерение» (Вышеградское продолжение…, 2010, с. 202).
Собственно, тема богоугодности власти Белы развивается и в «Венгерском хроникальном своде», библейские аллюзии которого на фоне всех означенных выше обстоятельств крайне примечательны. Сторонники «партии Калмана», пригласившие Бориса, названы «сынами Леви-афановыми». Данная библейская аллюзия близка к оригиналу ветхозаветного текста – Книге Иова, где Левиафан назван «царем над всеми сынами гордости» (Иов. 41:26). При этом гордыня, согласно христианскому учению, всегда идет рука об руку с беззаконием («Я накажу мир за зло, и нечестивых – за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей» (Ис. 13:11); «Ты [человек. – Н. Н .] был совершен в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. <…> От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою» (Иез. 28:15; 28:17). Собственно, на беззаконие ссылается и составитель хроники – «венгры, подобно соленому морю, всегда колеблются от беззакония» (Венгерский хроникальный свод, 2010, с. 367). Иными словами, некоторые представители венгерской знати возгордились настолько, что дерзнули поставить под сомнение власть Белы II и выдвинуть другого претендента на престол. Шанс умерить гордыню венгерской знати предложили на королевском совете, где прямо был поставлен вопрос: «За кого они [знать. – Н. Н .] считают Бориса (Borichius) – за незаконного или за сына короля Кальмана?» (Там же). Именно в ходе этого собрания вся приближенная к власти элита была разделена на «овец и козлищ» (Там же) – верных и неверных, не умеривших свою гордыню. Покарав «неправедных», Бела отправляет послов к русскому и польскому войску, взывая ко все той же законности: «Не подобает вам искать престола для незаконнорожденного» (Там же, с. 369). После этого русские войска поворачивают обратно.
Не потому ли дело решается столь быстро и бескровно, что версия о законном происхождении Бориса была очень зыбкой? А участие в военной кампании дяди Бориса, Андрея Добро-го3, было лишь попыткой последнего реализовать свои ситуативные интересы, воспользовавшись обстоятельствами надвигавшегося династического кризиса в Венгрии? Ведь Андрей был князем Волынской земли, границы которой находились вблизи Венгрии. Да и в целом венгры очень внимательно относились к ситуации в Юго-Западной Руси конца 10–20-х гг. XII в. Достаточно вспомнить, что Ярославу Святополчичу, которого из Волынской земли в 1117 г. выдворил Владимир Мономах, как минимум дважды венгры оказывали поддержку – непосредственно в год конфликта между Ярославом и Мономахом (ПСРЛ, 1926–1928, т. I, стб. 292) и позднее, в 1123 г. (ПСРЛ, 1998, т. II, стб. 287).
Наконец, Борис, уже покинутый русскими союзниками, идет против Белы, который его разбивает в день Марии Магдалины (Венгерский хроникальный свод, 2010, с. 369). Символичен день победы Белы, ведь Мария Магдалина известна как самая верная последовательница Иисуса Христа и праведница. Эта фраза как бы завершает библейскую линию о верных и неверных, праведных и неправедных, беззаконных гордецах и, выражаясь словами Матфея, благословенных.
Итак, непосредственные близкие родственники Бориса Калмановича – Владимир Мономах и его сын Мстислав – по сути, игнорируют его. Иштван II во время своей болезни определяет своим преемником брата своей сестры, а не Бориса, который при условии принятия поздней датировки появления версии о его незаконнорожденности, считался родным по отцу братом правящего короля. Более того, кандидатура Бориса была настолько неприемлема для Иштвана Калмановича, что он даже реабилитировал опального Белу, сына Алмоша – антагониста Калмана Книжника в борьбе за власть. Эта совокупность фактов говорит о том, что изначально происхождение Бориса ставилось под сомнение. И только ситуация прихода к власти сына Алмоша Белы и собор в Араде, основной целью которого была месть сторонникам Кал-мана, привели к «реабилитации» Бориса знатью, пострадавшей от рук нового короля. Физический недуг Белы – слепота – и малолетство его детей (Геза родился в 1130 г., а Ласло – в 1131 г.) давали шанс венгерской знати совершить государственный переворот, для которого и была необходима версия о законном наследнике престола Борисе Калмановиче.
Список литературы К вопросу об адюльтере русской княжны Евфимии Владимировны
- Блок М. Апология истории или ремесло историка. М.: Наука, 1986. 254 с.
- Бойцов М.А. Погребения государей // Словарь средневековой культуры. М.: РОССПЭН, 2003. С.369-372.
- Гайденко П.И. К проблеме типологизации монастырей домонгольской Руси (окончание) («Царские» монастыри домонгольской Руси) // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2016. Вып. 6. С. 369-386.
- Звягин В.Н. Медико-криминалистическое исследование останков из захоронения предположительно Юрия Долгорукого и членов его семьи: версии и доказательства // Проблемы медицины в экспертизе. 2015. С. 22-35.
- Ищенко А. С. Евфимия Владимировна и Калман Книжник: адюльтер или перемена политического курса? // Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2022. № 1 (17). С. 113-122.
- Каргер М.К. Древний Киев: очерки по истории материальной культуры древнерусского города. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. 1. 579 с.
- Карпов А.Ю. Юрий Долгорукий. М.: Молодая гвардия, 2006. 429 с.
- Кежа Ю.Н. Места княжеских погребений в домонгольской Руси // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2022. № 1 (87). С. 16-35.
- Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имен у русских князей в X-XVI вв. Династическая история через призму антропонимики. М.: Индрик, 2006. 740 с.
- Попов И.О. Княжеские резиденции в домонгольской Руси: летописные известия и археологические реалии // Startum plus. 2000. № 5. С. 391-406.
- РаппопортП.А. Древнерусская архитектура. СПб.: Строй-издат, 1993. 287 с.
- Розанов С.П. Евфимия Владимировна и Борис Коломанович. Из европейской политики XII в. //
- Известия АН СССР. Отд. гуманитарных наук. 1930. № 8. С. 585-671.
- РюссХ. Евпраксия-Адельгейда: биографический этюд // Rossica Antiqua. 2010. Т. 2. С. 54-112.
- Толочко П.П. Династические браки на Руси XII-XIII вв. СПб.: Алетейя, 2017. 189 с.
- Федонников Н. Места погребений франков из династии Меровингов // Vox medii aevi. 2017. Вып. 1. С. 90-105.
- ЩаповЯ.Н. Государство и Церковь в Древней Руси, X-XIII вв. М.: Наука, 1989. 232 с.
- Юрасов М.К. Кто помогал Борису Калмановичу в 1132 г. в его борьбе за престол с Белой III? // Княжа доба: iсторiя i культура. 2008. № 2. С. 93-97.
- Юрасов М.К. Внук Владимира Мономаха: Борис Калманович, князь-авантюрист. СПб.: Наука, 2017. 287 с.