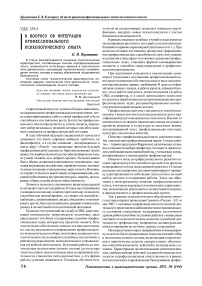К вопросу об интеграции профессионального психологического опыта
Автор: Крушинина Елена Васильевна
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Практическая психология: опыт, проблемы
Статья в выпуске: 1 (44), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные психологические характеристики, составляющие понятие «профессиональный опыт», возможности интеграции навыков в практическое поле деятельности, организация психологического сопровождения личного состава в период обеспечения общественной безопасности.
Психологические характеристики, интеграция навыков, практическое поле деятельности, психологическое сопровождение личного состава
Короткий адрес: https://sciup.org/14989045
IDR: 14989045 | УДК: 159.9
Текст научной статьи К вопросу об интеграции профессионального психологического опыта
Если ты посвятил жизнь психологии человека, не считай, что твоя жизнь прожита зря
Ф. М. Достоевский
Они могут, потому что они думают, что могут
Вергилий
Современный психолог должен обладать максимально выраженными профессиональными качествами, четко идентифицировать себя со своей профессией и быть способным к постоянному росту. Богатство профессионального опыта определяется и, в свою очередь, определяет набор возможных позиций, которые способен занимать специалист в профессиональной ситуации.
В ходе обучения будущей специальности психологи усваивают, что иметь здоровые амбиции, «работать, не философствуя, а в случае сомнения – воздерживаться и иметь веру» (Freud) – составляющие прогноза будущей профессиональной успешности. Практика позволяет делать вывод, что в работе психолога успех обеспечивается не только умной головой, но и добрым сердцем. Не менее важно быть гибким, оставаться спонтанным и «подлинным», оказывая внушающее воздействие, проявляя теплое, положительное отношение к внутреннему миру клиента. Возникает портрет психолога: выносливый, сопереживающий, умеющий мобилизовать внутренние ресурсы, творить, не подражая, и брать на себя личную ответственность.
Личность психолога, несомненно, является ресурсной и составляет часть метода работы. И здесь мы сталкиваемся с влиянием на психику клиента через психику психолога, способностью контактировать, не говоря «не волнуйся», наблюдать, организовывать людей, объединять и мотивировать других, быть исследователем, развивать новые идеи, реализуя личностный и психологический потенциал.
Психолог, поступающий на службу в ОВД, даже имеющий оптимальную теоретическую подготовку, мало представляет тот объем и содержание служебно-профессиональных задач, которые ему предстоит освоить. Психологическое обеспечение личного состава многогранно, оно осуществляется в направлениях профессионально-психологического отбора, подготовки, социально-психологического исследования служебных коллективов и рейтинга руководителей, психологического сопровождения служебной деятельности. В условиях работы со значительным количеством личного состава (до полутора тысяч на одного психолога) ведущим содержанием деятельности становится психодиагностика, и эта форма работы успешно осваивается. Плановое обучение пси- хологов на спецсеминарах позволяет повышать квалификацию, внедрять новые психотехнологии с учетом имеющихся возможностей.
В рамках командно-штабных учений осуществляется моделирование различных ситуаций, психологами отрабатываются приемы переговорной деятельности и т. д. При наличии мотивов достижения происходит формирование профессиональных способностей, при этом уровень их развития стимулирует постановку и решение профессиональных задач, становясь формой самовыражения личности и способом самоутверждения в профессиональном пространстве.
При адаптивном поведении в самосознании доминирует тенденция к подчинению профессиональной деятельности внешним обстоятельствам в виде выполнения предписанных правил, требований. И даже если формальных рамок, скажем, в работе юриста, априори больше, чем в работе психолога, психологическая служба в ОВД специфична, и в своей деятельности психологи пользуются наработанными алгоритмами решения профессиональных задач, регламентированными соответствующими нормативными актами.
Профессиональный опыт находится в тесной взаимосвязи с компетентностью (осведомленностью) и квалификацией (подготовленностью) психолога. Именно от компетентности зависят правильная оценка ситуации и принятие решения, и в структуре ее находятся знания, интегрированный опыт, профессиональная интуиция, культура и личностные качества.
Понятию «профессиональный опыт» идентично понятие «ментальная профессиональная карта» («ткань работы» – термин предложен Фарреном), включающее сознание успешности выбора профессии, готовность превосходить требования выполняемой работы, учиться всю жизнь, инициативность и демонстрацию профмастерства1.
Именно в модели профессионального развития человек характеризуется способностью выйти за пределы непрерывного потока повседневной практики. И только реальные нестандартные ситуации провоцируют проверку адаптированности собственно психологов и личный выбор методов и содержания работы. Здесь мы обратимся к интегративному понятию профессионального опыта, в котором выражаются взаимосвязь характеристик, позволяющих реализовать и личностный потенциал, и принадлежность к профессиональной группе.
Так, в рамках психологического обеспечения личного состава в период проведения Саммита «Россия – ЕС» в мае 2007 г. основные направления психологической деятельности представляли наблюдение психоэмоционального состояния сотрудников; поддержание достаточного уровня работоспособности; взаимодействие с командным составом по психологическим аспектам служебной деятельности; профилактику конфликтов; индивидуальное консультирование по личному запросу сотрудников.
Непосредственно перед направлением в командировку на местах были организованы психологический отбор и подготовка личного состава, включающая теоретические и практические аспекты саморегуляции, обеспечения личной безопасности, действий в экстремальных условиях. Характерными положительными моментами явилась свобода выбора действий созданной команды психологов и профессиональная ответственность в рамках психологического сопровождения. Выстраивание профес- сионального пространства носило не формальный, а конвенциональный характер благодаря сотрудничеству психологов, личного и командного состава.
Личный состав, задействованный в обеспечении общественной безопасности, прибыл из разных регионов. Особенностью явилось то, что служебная деятельность осуществлялась в ограниченных бытовых условиях, была связана с риском возникновения чрезвычайных ситуаций, экстремальностью, при этом она отличалась высокой интенсивностью, что обусловливало значительные психоэмоциональные и психофизические нагрузки на организм.
Наибольшую эффективность в работе с личным составом показал физиологически ориентированный подход («применение здоровьесберегающих технологий»2). Для коррекции последствий отрицательного воздействия стресс-факторов различного генеза, стимуляции природной антистрессовой защиты, релаксации, улучшения сна и активизации использовался прибор “Voyager”.
Положительный эффект в стимулировании личного состава имели инструктажи, использование всех потенциальных ресурсов, повышение мотивации к принятию поддержки.
Индивидуальные обращения со стороны сотрудников инициировались самостоятельно, что подразумевало доверие и открытость в презентации проблем, которые, возможно, на местах постоянной дислокации не затрагивались. Неформальность общения в диаде «психолог-сотрудник» подчеркивалась отсутствием четких временных рамок. С учетом режима работы личного состава психологи были открыты для общения круглосуточно.
В сопровождении руководящего состава решались задачи по координации действий, направленных на профилактику астенизации, повышение стрессоустойчиво-сти, поддержание здорового психологического климата и адекватного стиля управления.
Опыт, полученный во время саммита, позволил интегрировать в практическое поле деятельности те знания, умения, навыки, которые были приобретены за годы работы в привычных условиях, обогатить личностный репертуар во взаимодействии с коллегами и руководителями службы психологического обеспечения. Успех в прогнозе границ адаптационных возможностей сотрудников порождал успех в профессиональном настоящем и сопровождался личностными изменениями психологов, осуществляющих сопровождение.
Если обратиться к анализу использования психологического потенциала в привычных и экстремальных условиях, можно предположить, что в последних происходит глубокое усвоение профессиональных нормативов, упорядочивание образа психолога, уточнение стереотипов поведения в обычных условиях и непредсказуемых ситуациях; реализация индивидуально окрашенного значения своей принадлежности к психологической практике. Таким образом, создается некий «профессиональный ландшафт» (М. М. Кашанов), который предопределяется системой объектов, спецификой общения, кругом событий, имеющих отношение к реализации профессиональных функций, а также уровнем включенности в эти события.
В настоящее время участились случаи массового физического насилия, влекущего человеческие жертвы, с летальным исходом. Жесткие реалии жизни выводят социальные функции ведомства МВД за рамки чисто мили-цейских3. Психолог оказывается там, где человеку трудно.
Столкновение с травматической ситуацией, неожиданной и непредсказуемой, ставит человека лицом к лицу с реальностью смерти, разрушает базовые иллюзии о справедливости устройства мира. Работа с возникающими вследствие пережитого острого стресса состояниями и ситуативно обусловленными реакциями кумулирует профессиональные знания, приобретает особый смысл. Это связано с когнитивной составляющей профессионального опыта и пониманием того, что человек приносит в общение не только боль, но и способность преодолеть ее.
Так, 3 октября 2007 г. в Тольятти произошел взрыв в переполненном автобусе городского маршрута. На месте погибли 8 человек. По приказу начальника УВД была создана мобильная группа психологов в целях оказания помощи пострадавшим.Параллельно была поставлена задача по сбору информации (здесь непременным условием явилось объективное изучение среды и корректное построение контакта с очевидцами, поскольку недо ста-ток информации со стороны уполномоченных лиц порождает недоверие и агрессию по отношению к ОВД, влияет на образ милиции в целом).
Психологическое обеспечение осуществлялось в отношении членов семей погибших, раненых, их родственников, а впоследствии – личного состава и руководителей. Работа проводилась непосредственно на месте взрыва во время опознания родственниками тел погибших и в больницах, куда были госпитализированы пострадавшие. Первично целесообразным являлось оказание медицинской помощи: человек в тяжелом соматическом состоянии нуждается в меньшей психологической помощи. Многие были контужены, в среде пострадавших наблюдались внешние проявления шока и признаки острой стрессовой реакции – страх, мышечная блокада, ажитированность, тремор. Характерными были готовность, расположенность людей к контакту, в беседе психологи обнаруживали внедряющиеся картинки-воспоминания, частичную амнезию, притупленность и фиксацию эмоций, нарушение связной речи и целостности психологических защит.
На примере оказания помощи пострадавшим во время взрыва в пассажирском автобусе отмечаем, что в деятельности, имеющей нестандартный характер, происходит глубокое усвоение профессиональных нормативов. Используя фрагменты рефлексии личного опыта переживаний психологов, осуществляющих деятельность на месте взрыва, мы отмечаем актуальность круга проблем, связанных с психологической толерантностью специалистов.
В рамках дерефлексии (переключения с симптома страха на другую активность (Frankl), на снижение психогенно обусловленных состояний апатии, тревоги, фобических проявлений, устранение психологической индукции – заражения) первоначально были использованы активный расспрос – выслушивание-проговаривание травматических переживаний, эмоциональная поддержка, тактильный контакт с потерпевшими, мягкое провоцирование на вызов и отреагирование эмоций, разъяснение, что реакция на произошедшее нормальна. Иногда было достаточно жеста, выражения лица или пожатия руки и минимума слов, и все это было на тот момент важнее длительной переработки.
Полученные положительные реакции, естественно, кратковременные, и следовательно, нужно было предполагать, что редуцированная симптоматика возобновится и возможные аффективные реакции еще впереди. Поэтому для предотвращения рецидивов, профилактики отсрочен- ных ПТСР, тщательной проработки травматического опыта необходимо было рекомендовать обращение к специалистам и эффективную в данном случае групповую психотерапию с пережившими. Работа с личным составом, задействованным на месте взрыва, была направлена на поддержание работоспособности, реализацию мероприятий, связанных с отработкой впечатлений, снятием внутреннего напряжения, усилением групповой поддержки. Миссия мобильной группы психологов ОВД была завершена.
Значимым дополнением является хронологическое рассмотрение «здесь и теперь» всех озвученных друг другу идентичных переживаний психологов, осуществляющих деятельность «там и тогда».
По прибытии на место происшествия начинало казаться, будто из настоящего попадаешь куда-то, где в воздухе ощущаются неопределенность, нереальность, будто «время остановилось» (метафорически: «состояние плазмы» по Ф. М. Достоевскому). В общении внешне психологи выражали ограниченный спектр эмоций, лишь непосредственно в больнице пришло понимание того, что вся сумма знаний должна быть представлена адекватно, т. е. произошло интуитивное «озарение», наблюдалась общая мобилизация, желание работать с каждым. По завершении нескольких часов непосредственного взаимодействия пришло чувство голода, доминирующей была потребность сна, а во сне – яркие отвлеченные образы. Наутро ощущались обновление, неведомая, кажущаяся странной легкость, желание общаться. Ближе к вечеру и на следующий день состояние трансформировалось: отмечались лабильность, раздражительность, импульсивность в реакциях, замкнутость, нежелание говорить. Обмен впечатлениями позволил сделать вывод, что состояния психологов созвучны. Еще через неделю присоединились апатия и переживание собственной несостоятельности.
Очевидной стала актуальность круга проблем, связанных со способностью психологов переносить поведение людей, обусловленное психологической травмой, без выраженного внутреннего волнения. В данном случае речь идет о психологической дефензивности. Факторы, способствующие профессиональному росту, могут служить и причинами, провоцирующими синдром эмоционального «выгорания». В целях повышения психологической толерантности необходимо овладение комплексом мер, направленных на повышение ресурсов, снижение внутреннего психического напряжения, связанного с работой. Это может быть обращение к коллегам, самопознание и рефлексия, психофизические тренировки4.
Представленный рисунок переживаний психологов, осуществляющих свои функции на месте трагедии, был уникален, в то же время он свидетельствовал об излишней эмоциональной вовлеченности в мир пострадавших, погружение в их чувства. Таким образом, кроме тех, кто обнаружил достаточную толерантность и избирательность в реагировании, некоторые психологи в определенной степени сами себе напоминали «сотравматиков».
Понимание того, что работа с другими для психолога возможна, если он способен помочь себе, позволило признать необходимость переработки полученного опыта. Кто-то бесконечно много делился своими внутренними изменениями с друзьями и близкими, кто-то просто ждал, что организм «перенастроится», кто-то, концентрируя чувства, в силу притяжения ехал к месту, связанному с болью людей, зажигал с ними свечи, не задумываясь о том, что это есть часть некоей трансовой техники. Оживление в памяти эмоций приводило к нивелированию их интенсивности. Динамика была положительной.
Безусловно, никому не пожелаешь пережить психологическую травму. Но если это происходит, все зависит от того, как человек сможет с этим справиться. В успешном случае это извлечение из переживаний важного опыта (касательно психологов), интеграция его в профессиональное поле и личностный портрет, большая чуткость к людям, лучшее понимание жизни, того, что необходимо «ценить ценное и упрощать простое». Этот профессиональный опыт представил собой некий буфер между личностью каждого психолога и профессиональной деятельностью, интегрирующий пережитые ситуации, которые останутся в памяти и в жизни придадут определенный стиль поведения вследствие выбранного и сработавшего на результат способа поведения.
С учетом специфики психологической службы в ОВД, несомненно, важны значительные адаптационные резервы. Кроме того, в целях оказания качественной профессиональной помощи гражданам при чрезвычайных ситуациях и обстоятельствах сопровождения личного состава необходимо осуществлять узконаправленную теоретическую подготовку в области психологии катастроф на основе непосредственного опыта работы в экстремальных условиях, с травматическим состоянием, состоянием горя.
Соответствие своих возможностей требованиям среды, чувство собственной значимости и результативности действий играют прогностическую роль там, где знания становятся опытом. Задачей психолога было и будет брать проблему, применять способность изменять отношение к ней или изменять самое реальность. Готового рецепта быть профессионалом не существует: есть собственное мышление, радость общения и творчество.
Роль опыта в ситуации востребованности психолога основана на результате профессионального прошлого, с одной стороны, а с другой – предопределяет успешность профессионального настоящего и будущего. Жизнь показывает, что деятельность психологов в настоящее время востребована. От степени широты, сложности, характера профессионального опыта, его самоорганизации, рефлексии и приобретенной мудрости в итоге зависит эффективность самореализации: в системе ОВД или вне ее – она имеет большое практическое значение в повышении профессионализма и создании современного образа психолога в целом.
Список литературы К вопросу об интеграции профессионального психологического опыта
- Иванова Н. Л., Конева Е. В. Профессиональная идентичность и профессиональное пространство//Мир психологии. 2004. № 2. С. 148-156.
- Энгельгардт Г. Н. Возможности использования аудиовизуальной стимуляции для активизации природной антистрессовой защиты здоровья человека//Психотерапия. 2005. № 2. С. 26-28.
- Руденский Е. В. Психология стресса. Новосибирск, 1997. 221 с.
- Даренский И. Д. Приемы повышения психической толерантности психотерапевта//Психотерапия. 2004. № 1. С. 24-28.