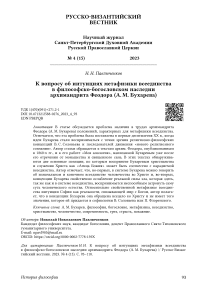К вопросу об интуициях метафизики всеединства в философско-богословском наследии архимандрита Феодора (А. М. Бухарева)
Автор: Павлюченков Н.Н.
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 4 (15), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждается проблема наличия в трудах архимандрита Феодора (А. М. Бухарева) положений, характерных для метафизики всеединства. Отмечается, что эта проблема была поставлена в первые десятилетия ХХ в., когда идеи Бухарева стали восприниматься с точки зрения религиозно-философских концепций В. С. Соловьева и последователей движения «нового религиозного сознания». Автор статьи обращается к текстам архим. Феодора, опубликованным в 1860-х гг., и к его работе «Моя апология», написанной Бухаревым уже после его отречения от монашества и священного сана. В этих текстах обнаруживаются две основные позиции, по которым восприятие Бухаревым христианства и служения Христа как «Агнца Божия» может быть соотнесено с парадигмой всеединства. Автор отмечает, что, во-первых, в системе Бухарева можно говорить об изначальном и конечном всеединстве человечества во Христе и, во-вторых, концепции Бухарева свойственно ослабление реальной силы зла, которая здесь, так же как и в системе всеединства, воспринимается неспособным затронуть саму суть человеческого естества. Относительно свойственной метафизике всеединства интуиции Софии как реальности, связывающей мир с Богом, автор полагает, что в концепции Бухарева она обращена всецело ко Христу и не имеет того значения, которое ей придается в софиологии В. Соловьева или П. Флоренского.
А. м. бухарев, философия, богословие, метафизика, всеединство, христианство, человечество, современность, грех, страсть, покаяние
Короткий адрес: https://sciup.org/140301586
IDR: 140301586 | УДК: 1(470)(091)+271.2-1 | DOI: 10.47132/2588-0276_2023_4_93
Текст научной статьи К вопросу об интуициях метафизики всеединства в философско-богословском наследии архимандрита Феодора (А. М. Бухарева)
Интерес к творческому наследию Александра Матвеевича Бухарева, бывшего архимандрита Феодора, как правило, возникает в связи с периодически актуализируемой проблемой отношения Православия к «современности». Сам о. Феодор так и назвал наиболее известный сборник своих статей, вышедший в 1860 г., в предисловии к которому пояснял, что под «современностью» понимает господствующие в данный момент в человеческом обществе духовные стремления, потребности и опасно-сти1. Духовные стремления и потребности своих современников он хотел возвести ко Христу, Искупителю мира, а опасности видел в том, что человечество в своей деятельности на земле от Христа обосабливается, следуя ложному или ошибочному разделению жизни материальной и жизни духовной. Он находил такое разделение преодоленным в Боговоплоще-нии и служении Христа как «Агнца Божия», взявшего на Себя все грехи, неизбежно сопровождающие жизнь

Архимандрит Феодор (Бухарев). Литография с фотографии начала 1860-х гг. Худ. В. П. Шемиот, 1870-е гг.
и деятельность человека в этом мире. «Барометры, пароходы, — писал он, в частности, — все перешедшие к нам с Запада плоды цивилизации, изобретения и успехи человеческого разума, все это отселе составляет для нас дары Бога Слова, которые доселе были только тщетно похищаемы у Него человеческим разумом, забывшим, что он и сам есть собственность Его же»2.
Прежде всего именно такое направление его мысли вызвало полемику, довольно грубо начатую В. И. Аскоченским на страницах «Домашней беседы для народного чтения» и, отчасти, продолженную в рецензиях на другие его труды, изданные в 1860-е гг.3 Бухареву, как правило, отдавали должное как замечательному библеисту и экзегету, но, в целом, в центре внимания всегда оставалась, собственно, эта его богословская концепция, позже, достаточно не благозвучно, но по сути верно названная Н. Бердяевым «панхристизмом»4. При поверхностном взгляде она казалась попыткой дать Христу «барометры и пароходы» вместо единственно ожидаемой Им от человечества жертвы сокрушенного и смиренного духа5, а в более основательных разборах представлялась путем к «оправданию и извинению» жертвой Христа многих человеческих грехов и ослаблением тяжести порока собственно для людей6.
О Бухареве как богослове почти забыли в период, пришедший на смену эпохе «великих реформ», чему в немалой степени способствовал, конечно, эффект, вызванный его решением отказаться от монашества и священного сана, принятым им в 1862 г. и удовлетворенным Св. Синодом год спустя. Новое «открытие» его наследия состоялось на рубеже XIX–ХХ вв., когда занимавшая его проблема не только была поставлена с новой силой и чрезвычайной остротой, но и вышла, если можно так сказать, на качественно новый уровень. Речь тогда шла уже не только о том, «нужны ли Христу», — т. е. имеют ли какую-либо вечную ценность, — плоды современной человеческой цивилизации и в какой мере Православная Церковь может и должна их принимать и освящать. Теперь Церковь сталкивалась с фактической дехристианизацией современного общества и почти всеобщим стремлением к радикальному обновлению, как в общественно-политической, так и в религиозно-философской и богословской мысли. И достойно особого внимания то обстоятельство, что в этой ситуации дало о себе знать восприятие Бухарева как «пророка», опередившего свое время и именно поэтому не понятого своими современниками.
В способствовавших возвращению интереса к наследию Бухарева публикациях церковного историка П. В. Знаменского7 мысль о том, что архим. Феодор «явился действительно не вовремя», высказывалась относительно ситуации в русском богословии в середине XIX в.8 Но почти сразу в о. Феодоре заметили предшественника и даже идейного вдохновителя идей русского религиозно-философского «ренессанса» начала ХХ в. Явным отголоском мнений, высказываемых в среде «московских философов», представляется замечание еп. Феодора (Поздеевского), сделанное в отзыве на студенческое (в МДА) сочинение, посвященное богословским воззрениям Бухарева. «Нам думается, — писал еп. Феодор, — что такой крупный мыслитель, как Вл. С. Соловьев, многое из идей Бухарева воспроизводит в своем понимании… идей Царства Божия»9. В свою очередь, определенным отражением настроений среди религиозных философов в Петербурге может служить оценка, данная в статье «Бухарев» И. Д. Андреева10, редактора отдела богословия и церковной истории «Нового энциклопедического словаря» Брокгауза и Эфрона (1912): «У него (Бухарева. — Н. П. ), — писал И. Д. Андреев, — оказались преемники. Соловьев часто говорил его языком. Представители нового религиозного сознания вновь выдвигают его идеи…»11
Впоследствии о таком восприятии богословия Бухарева писали в своих воспоминаниях и исторических обзорах авторы в русской эмиграции. Так, в специальной статье, посвященной жизни и учению Бухарева, опубликованной в журнале «Путь»
в 1930 г., А. Ф. Карпов утверждал, что одним «из наиболее ярких» продолжателей Бухарева явился В. Соловьев в своих «Чтениях о Богочеловечестве»12. С этим соглашался С. А. Левицкий13, добавляя, что «по существу, Бухарев оказался впереди своего времени и его идеи были высказаны слишком рано… В начале ХХ века Бухарев оказался бы в русле религиозно-философского ренессанса, ранним предшественником которого он был»14. Но наиболее энергично эту мысль подчеркивал Н. А. Бердяев в своих размышлениях «О характере русской религиозной мысли XIX века» (1930) и в «Русской идее» (1946)15. «Он (Бухарев. — Н. П. ) утверждал, — писал Бердяев, — как потом Н. Федоров, внехрамовую литургию. Русской религиозной мысли вообще свойственна идея продолжающегося Боговоплощения, как и продолжающегося в явлении Христа миротворения»16.
Но серьезным научным исследованием наследия Бухарева планировал заняться, как кажется, только свящ. П. Флоренский. В 1913 г. он предпринял поездку в Переславль к вдове Бухарева Анне Сергеевне. По-

Священник Павел Флоренский, 1915 г.
лученные у нее, а также и у прот. Валериана Лаврского материалы он публиковал в «Богословском вестнике» и отдельными изданиями в 1913–1917 гг.17 В примечании к последней публикации писем Бухарева к прот. В. Лаврскому в 1917 г. Флоренский высказался вполне определенно: «Мое убеждение, — писал он, — что будущему еще предстоит открыть архимандрита Феодора и, за мало привлекательной оболочкой его сочинений, увидать нечто, насквозь современное, — быть может, упреждающее нашу современность. Полагаю, что мы еще не вполне понимаем архимандрита Феодора, и что еще нет ни оценки, ни надлежащей критики его воззрений»18. Это утверждение он повторил в письме редактору издательства «Огни» в 1918 г., для которого вместо заказанной монографии о митрополите московском Филарете намеревался написать монографию о Бухареве. Бухарев, отмечал Флоренский, является родоначальником
«религиозного и, отчасти, литературного течения нашей современности, и теперь только приходит время его настоящей оценки. Однако и в прошлом его влияние, обычно просачивающееся подкожно, было велико»19.
Издание монографии не состоялось, но Флоренский в 1919 г. успел написать введение и часть биографии Бухарева до его учебы в Тверской семинарии. Этот текст, опубликованный только в конце ХХ в., замечателен тем, что Флоренский в нем опознает архим. Феодора как первоисточник характерных (с точки зрения Флоренского) для русской мысли XIX в. прозрений в существо метафизической реальности, связывающей Мир с Богом. В наследии Бухарева, писал Флоренский, обнаруживается «творческий первоисточник тех идей…, которые ныне объединяются под условным названием „нового“, почему-то, „религиозного сознания“ и суть которых лежит в отношении Мира и Бога, в том метафизическом узле, Бога и Мир связующем…»20 В занимавшей Бухарева «Христологической» проблеме Флоренский увидел (и отнес к «первово-просу» самого Бухарева) проблему «Христокосмическую» и «Христо-Софийную»21. Бухарев, указывал Флоренский, «решился утвердить ценность, должность и святость мира, плоти, всяческой конкретности»22; «сумел увидеть мир как первозданную красоту Отца Небесного, Предвечного Художника, как отражение Небесного Иерусалима, как самый Иерусалим Небесный, но нуждающийся в убелении кровью»23. В интерпретации Флоренского, «в Агнце Божием, предвечной жертве за грех мира, Бухарев увидел всю полноту ноуменальных, Божественных основ мира и его жизни»24; Бухарев постиг, что «платоновский горний мир, умное место идей и первообразов сущего оказался Словом жизни, Которое видели очи наши…», после чего, собственно, и «метафизика перестала быть мета-физикой и стала просто физикой, историей, но для очищенного зрения»25.
Это было уже существенно новым добавлением к восприятию концепции Бухарева как определенных «предначертаний» «Чтений о Богочеловечестве» В. Соловьева. По существу, вопросы, которые «занимали» Бухарева, отнесены Флоренским к христианскому восприятию метафизики всеединства, религиозно-философскому и богословскому обоснованию которой сам Флоренский, можно сказать, посвятил всю свою жизнь26. Одновременно все эти вопросы обозначены как принадлежащие тем направлениям, в которых всегда двигалась русская мысль, а возникшее в начале ХХ в. движение «нового религиозного сознания», как Флоренский исчерпывающе пояснил еще в «Столпе и утверждении Истины», с его точки зрения, лишь эксплуатирует их, пытаясь вывести их решение и даже саму постановку за ограду «исторической» Православной Церкви27.
О том, что такое восприятие наследия Бухарева для самого Флоренского не было лишь гипотетическим, свидетельствует также и письмо, написанное им 2 марта 1916 г.
по просьбе С. М. Лукьянова, собиравшего материалы к биографии В. Соловьева. В нем, высказывая догадку о возможности знакомства В. Соловьева с идеей Софии именно в Московской академии, Флоренский уверенно утверждал, что Бухаревым эта идея унаследована (очевидно, в той же МДА) от прот. Ф. Голубинского28. С точки зрения Флоренского, речь идет, конечно, не о развитой концепции, а именно об «идее» Софии, которая у Бухарева (а, следовательно, и у прот. Ф. Голубинского) являлась еще в «полуосознанном» виде. «Идею Софии», согласно Флоренскому, Голубинский «глубоко выносил в себе»29, а это, прежде всего, именно представление о наличии метафизической реальности, связывающей Мир с Богом, или даже, как уточнял Флоренский в неопубликованном материале о Бухареве (и в одновременно, в 1919 г. написанной статье «Небесные знамения»), — такой реальности, которая, — в онтологическом смысле, — уже не Бог, но еще и не есть тварь30.
С точки зрения традиционной христианской догматики это — самое слабое место софиологии, но именно так мыслил о Софии поздний Флоренский и именно такое (правда, «полуосознанное») представление о «метафизическом узле», связывающем Мир с Богом, он приписывал Бухареву. К сожалению, эти утверждения еще не стали предметом специальных исследований, а сам Флоренский, не получив возможности дописать монографию, оставил их, по существу, бездоказательными.
I
Существующая к настоящему времени исследовательская литература почти вся посвящена теме «Православие и современность» в богословской концепции Бухарева. Как и прежде, на вопрос об отношении этого аспекта концепции Бухарева к подлинному христианству предлагаются различные ответы. Но теперь, в частности, пересматривается прежнее отношение к Бухареву как к «продолжателю в бого-словствовании» свт. Филарета Московского. В 1905–1906 гг. прот. В. Лаврский писал, что «вообще в сочинениях о. Феодора повсюду видны следы глубокого изучения им творений митрополита Филарета, из которых он иногда берет текст и комментирует его, развивая собственные свои воззрения»31. В 1930-е гг. прот. Г. Флоровский, при всей своей характеристике Бухарева как мечтателя-утописта, отмечал близость его взглядов к свт. Филарету32. В наше время, если прот. А. Балакай пишет о Бухареве как «последователе» свт. Филарета33, то прот. П. Хондзинский замечает, что «не раз ссылаясь на святителя Филарета, А. М. Бухарев нигде не опирается на его тексты»34. По наблюдениям прот. Павла, стремление во всем видеть Христа у Бухарева обосновывается его собственным представлением о «попущении» Божием. И если у Бухарева «все, попускаемое Богом, так же есть в собственном смысле Божие», то у свт. Филарета попущение Божие — «то временное торжество зла, которое необходимо, чтобы либо оттенить мужество и терпение праведных, либо напомнить человеку о его несамо-достаточности»35. Если Бухарев хочет во всем в мире видеть Христа и в таком стремлении фактически снимает проблему выбора между Христом и миром (и предлагает христианство, уживающееся «с плодами своих уступок миру»36), то свт. Филарет хочет «ввести Христа в мир, чтобы обнаружило себя и отступило все, несогласное с Ним»37.
Проблема, связанная с наличием в наследии Бухарева идей, предваряющих христианскую интерпретацию метафизики всеединства, в статьях прот. П. Хондзинского специально не ставилась и не обсуждалась, но характерны сделанные им некоторые замечания. Так, он находит новизну в понимании Бухаревым кенозиса Христа относительно своих предшественников и современников в русском богословии38 и отмечает «бухаревский акцент на „усыновление“ всей твари Сыну Божию уже в акте тво-рения»39. «Бухаревское толкование выражения перворожденный всея твари , — пишет прот. Павел, — позволяет перекинуть мостик к позднейшим русским концепциям, представляющим акт творения мира как первый акт божественного кенозиса»40. Подобные концепции, как известно, могут хорошо согласовываться с одним из важнейших оснований метафизики всеединства, требующим признания необходимости изначальных трансформаций в Абсолюте при возникновении мира.
В своем исследовании богословия архим. Феодора, прот. А. Балакай соглашается с тем, что Бухарев «предварил Владимира Соловьева своим углублением в проблему Богочеловечества»41, а историк И. В. Воронцова отмечает, что идеи Бухарева заимствовали теоретики «нового религиозного сознания». Сопоставляя их концепции и богословие Бухарева, она приходит к выводу, что «при различиях „систем“ есть в них и явные параллели и взаимосвязь»42. Пожалуй, этим исчерпывается все самое существенное, что после Н. Бердяева и свящ. П. Флоренского было сказано о возможном родстве богословия Бухарева с богословскими аспектами последующих идей «нового религиозного сознания» и метафизики всеединства. Темой специального исследования может стать сопоставление того, что прочитывали у Бухарева его современники, и что именно в тех же его статьях стало открываться философам и богословам в начале ХХ в. Но, как бы там ни было, вопрос об отношении философско-богословской системы Бухарева к метафизике всеединства поставлен, проблема, действительно, существует и требует своего решения.
II
Предлагая к такому решению лишь некоторые, предварительны подходы, прежде всего, нужно сказать, что парадигма всеединства в своей религиозно-философской концептуализации может находиться в различных отношениях к традиционному христианскому вероучению и мировоззрению. В данном случае, конечно, целесообразно ориентироваться на те концепции, в которых сделаны попытки все «проблемные» моменты идеи всеединства максимально продумать и разрешить с христианской точки зрения. В начале ХХ в. опыт построения такой метафизики всеединства предпринимали, — почти одновременно и не зависимо друг от друга, — Е. Н. Трубецкой и свящ. П. Флоренский43. Здесь ни в каком случае не идет речь о характерных для немецкой мистической философии представлениях о метафизических процессах в Абсолюте и формально может даже допускаться творение Богом мира «из ничего». Также совершенно особое значение придается Боговоплощению, но дело Христа подчеркнуто рассматривается как совершенное по отношению ко всей твари , которая, так же, как и человек, призвана к обожению. При этом сама реальность обожения полагается возможной вследствие наличия «между» Богом и миром определенной онтологической связи, вследствие чего и вводится понятие Софии. Последняя может рассматриваться в различных (более или менее онтологически близких) отношениях ко Христу, но в любом случае воспринимается в качестве особой метафизической реальности, являющей наличие «моста» между Богом и Миром. Непременное (и неотъемлемое от парадигмы всеединства) восприятие этого «моста» в онтологическом смысле приводит к убеждению в невозможности для твари оставаться вне своей существенной связи с Богом, вследствие чего традиционные христианские представления об аде, «геенне» и вечных муках заменяются либо на полноценное учение об апокатастазисе, либо на учение об онтологическом уничтожении твари, до конца пожелавшей быть без Бога.
Все это, конечно, лишь самые основные и максимально упрощенные положения «христианской» (вернее, христианизированной) метафизики всеединства, которые, как представляется, и следует искать в наследии Бухарева, если он действительно являлся «полуосознанным» первоисточником подобных идей, получивших свои философско-богословские разработки в начале ХХ в.
Первая и основная трудность в таких поисках, как и вообще в аналитических исследованиях работ Бухарева, заключается в отмеченной уже его современниками иногда случающейся неадекватности выражения им, — на словах и на бумаге, — своих действительных мыслей. Причем эта особенность проявлялась также и в тех текстах Бухарева, где содержалась, по выражению прот. В. Лаврского, его «строгая и своеобразная богословская система»44. Так, автор рецензий на книги «О православии в его отношении к современности» и «Несколько статей о святом апостоле Павле», опубликованных в «Православном обозрении»45, отмечал, что у о. Феодора «мысль, часто не совсем ясная сама в себе, еще более запутывается в тяжелом, иногда туманном изложении»46. Относительно работы Бухарева «Несколько статей о святом апостоле Павле» свящ. М. Архангельский писал, что она написана «в особенности тяжело и необработанно»47. По оценке Н. Бердяева, Бухарев «писал так старомодно и не литературно, что читать его почти невозможно»48. Но, кажется, раньше всех эту особенность Бухарева в отношении

Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский
изложения им своих богословских взглядов заметил свт. Филарет Московский. Обычно цитируется его замечание из письма к Обер-прокурору Св. Синода графу А. П. Толстому от 24 марта 1861 г.: «Он (архим. Феодор. — Н. П. ) говорит неправославно не потому, что думает еретически, а потому, что думает и говорит бестолково»49. Здесь, однако, следует обратить внимание и на контекст этого замечания, в котором, подтверждая верность богословия Бухарева догматам Православной Церкви, свт. Филарет указывал, что, думая «возвыситься в созерцании истины», архим. Феодор использует неверные соображения и в результате усиливает «свое мудрование до мечтательности» и «впадает в нелепости»50.
Бухарев, как известно из опубликованных свидетельств, очень тяжело (не только морально, но и физически) переживал отказ свт. Филарета Московского дать благословение на печатание его трудов. Архим. Феодор смог издать их (без согласования со свт. Фила- ретом) только в начале 1860-х гг., когда сам был цензором в Петербурге. И очень
характерно, что предполагаемое также к изданию и почитаемое самим Бухаревым самым главным своим трудом «Исследование Апокалипсиса» начинается фактически с выражения автором твердой уверенности в своей способности проникнуть в тайны этой книги. Раскольники, римские католики, протестанты, лжемистики, пишет он, пытаются найти в ней оправдание «своих лживых односторонностей» или своему «мечтательному направлению». Поэтому «очевидна настоятельная потребность в православном, правомысленном расследовании св. книги»51. И архимандрит Феодор предоставляет самому читателю увидеть, «как тайны Апокалипсиса разрешаются нами в точный смысл (выделено мной. — Н. П.)»52. Проявляя «достойное уважение» к отзыву свт. Филарета об этом исследовании, архим. Феодор приводит лишь его слова «мерцание света видно». Будет, пишет он, великая благодать и милость Божия, если и читатель также увидит в его труде хотя бы это «мерцание»53. Иначе говоря, автор выражает свое желание, чтобы в его точном раскрытии тайн Апокалипсиса каждый читатель для себя обрел хотя бы некоторое прикосновение к Истине, как это случилось однажды со свт. Филаретом. Подобные штрихи, выявляющие, как минимум, весьма непростое духовное состояние архим. Феодора, в данном случае следует учитывать, поскольку, несомненно, они накладывают свой отпечаток на его восприятие подлинного христианства, которое он хотел раскрывать и воплощать в жизни человечества.
III
Признавать Христа «живым началом своей мысли, своей воли, сердца, воображения» для Бухарева означает признавать Его таким же началом и «всей области наук, искусств, жизни общественной и частной»54. Иную позицию Бухарев воспринимает как современное арианство, что как будто не должно вызвать серьезных возражений, особенно при его настойчивом требовании везде и всегда, во всех земных делах быть со Христом. Сложности начинаются при конкретизации самих земных дел и помышлений, из числа которых Бухарев, конечно, выделяет явно греховные и совершенно не допустимые. Но и пресловутые «барометры и пароходы», на место которых, как писал еще В. Розанов, «мы можем подставить „Гегеля“» и вообще «что угодно»55, требуют, как минимум, уточнения, каким образом мотивация их создания и использования может способствовать реализации задаваемой христианством цели неуклонного следования по пути вечного спасения во Христе. Или иначе: мысль, воля, воображение и т. д. могут быть ориентированы не просто на удовлетворение естественных земных потребностей человека (о чем только почти всегда и говорит Бухарев), а на создание все более умножающихся излишеств, к которым, как говорится в христианской аскетической литературе, могут «прилепляться» человеческие ум, воля и сердце. Такое «прилепление» порождает «страсти», фактически превращающиеся в системе Бухарева из объекта борьбы в пороки, допускающие свое оправдание и даже развитие «под началом Христа».
Здесь можно много говорить о тонких гранях, за которыми забота о земном и действительно необходимом может оборачиваться зарождением «страсти»; можно также говорить о слишком широких и духовно неравнозначных возможностях в использовании тех же пароходов — как, например, средства для проповеди и совершения таинств в отдаленных регионах (как это делал св. Иоанн Кронштадтский), как исключительно транспортного средства или как пособия к совершению увеселительного круиза.
Достаточно хорошо знакомый со Священным Писанием и его святоотеческой экзегезой, Бухарев, как кажется, не может не знать традиционного христианского учения о многообразии и силе проявлений человеческого греха. И он, по-видимому, вполне принимает это учение, но хочет видеть «свет Христов», — поскольку это свет «Агнца», взявшего на Себя грехи всего мира, — везде и как будто в самом человеческом грехе. Так, он созерцает обилие «Христова света» в «темных глубинах мысли» новейшей философии, извратившей, по его признанию, Христову истину56. Это, по существу, должно означать, что самый грех извращения истины должен рассматриваться как уже взятый на Себя Христом. Если свет Христов можно созерцать везде, то все находится во Христе, как и самый человеческий грех, остающийся реальным, по Бухареву, и действенным только в том случае, если человек всю свою деятельность не совершает под «началом Христа». Отвечая на критику своих представлений и будучи уже в состоянии отречения от монашества и священного сана, Бухарев, в частности, писал: «Я, согласно Евангелию, говорю в своей книге57, что Христос Бог-Слово есть свет, светящийся и во тьме человеческой (Ин. I, 5), давая иногда и такому темному человеку, как христоубийственный Каиафа, пророчествовать, и это даже при самом приготовлении смертного приговора на Христе (XI, 49–51)… Потому и во тьме не-правомыслия и даже язычества внушаю не пренебрегать, а отыскивать всякие искры от Христова света»58. Свет Христов, утверждает Бухарев, светит «и во тьме нецерковной». «Свет православия простирается на всевозможные среды, по крайней мере, чрез предваряющую или предуготовляющую и привлекающую к православию благодать (выделено Бухаревым. — Н. П.)»59.
Как можно видеть, в этой «апологии» не учтены два важных положения: первосвященнический сан Каиафы (что подчеркнуто в самом тексте Евангелия60) и различие между привлекающим действием Божественной благодати и таким ее присутствием, когда она свободно и сознательно принимается человеком. Первое действительно возможно везде (во «всевозможных средах», во «тьме нецерковной», во «тьме непра-вомыслия» и т. п.), а последнее, по христианскому вероучению, — только в Церкви. Нельзя не заметить, что именно такое не различение модусов присутствия и действия Божественной благодати свойственно интуициям, на которых строится метафизика всеединства, где, как и во многих текстах Бухарева, для областей, где реально присутствует «свет Христов», фактически не полагается никаких границ, обусловленных церковными таинствами (прежде всего Крещения и Миропомазания). С таких позиций, ничто в мире не лишено Христова света, как будто просто по факту совершившегося служения Христа как «Агнца Божия» и греховная деятельность в том числе, и само греховное мышление человека перестают быть таковыми, если человеческой свободой возводятся под «начало Христа».
IV
Идея, по Бухареву, заключается в том, чтобы под водительством Христовой истины, при догматически верном исповедании Христа, все возвращать под Его начало, из всего извлекать во всем сияющий Его свет и этим светом преображать все существующее. Именно так, как известно, мыслил молодой П. Флоренский, когда, следуя В. Соловьеву, в частности, писал, что истина «есть по частям везде»61. В обоих случаях рассеянный повсюду «свет» воспринимается как бы остающимся совершенно «чистым», не допускающим своего искажения до такой степени, чтобы «просвещаемая» им среда сделала его непотребным. Если продолжать использовать этот образ, то следует сказать, что фактически, без всяких оговорок и условий, здесь утверждается возможность выделения «загрязненного» средой света в его самом чистом и неповрежденном виде. При таком убеждении, непотребным для Вечности (Царства Божия, реальности будущей вечной жизни с Богом в преображенном мире) ничего нельзя признать в принципе . Этим, конечно, не разрушается традиционное христианское учение о необходимости покаяния62 как свободного подвига созидания каждым человеком самого себя (в со-работничестве с Богом) способным и готовым быть в Царстве Божием. Но вся ситуация подвига покаяния, «духовной брани» и других важнейших сторон христианской духовной жизни существенно упрощается точно так же, как того, по существу, требует сама парадигма всеединства.
Если, согласно образу из святоотеческой аскетики, греховная страсть есть яд, отравляющий созданное Богом непорочное человеческое естество63, то в системе всеединства следует говорить лишь о недолжном порядке (или беспорядке, «хаосе») в тех же элементах, которые составляли и составляют идеальное (у В. Соловьева — «божественное») бытие64. Это, если можно так сказать, изменение «структурное», но не «качественное» и не «количественное», в смысле «прибавления» чего-то нового. С точки зрения восприятия греха как вызванной «ядом» болезни, в таком случае нужно говорить лишь о временном расстройстве в живом организме, никак не угрожающем смертельным исходом ни для него самого в целом, ни для какой-либо его части. Эта «болезнь» — производное самого организма и им же самим, в конечном итоге, преодолевается.
Если в этих образах говорить о системе Бухарева, то она запрещает объявлять непотребным для общества здоровых людей человека именно в его данном , болезненном, «отравленном» состоянии. Запрещает, поскольку человек, — опять же, вкупе со всеми своими болезнями, — есть «собственность» Христа. Здесь постоянно приходится учитывать тонкую грань, на которой балансируют подобные взгляды. Эта грань проходит между реальностью самого человека, который был и остается созданием Божиим, и состоянием того же человека, который еще не эффективно или вообще не использовал данное ему противоядие при своем возвращении в «собственность» Христу. Система Бухарева, как кажется, вполне готова к тому, чтобы признать «собственностью» Христа всего нынешнего, «отравленного» человека, а следовательно, и сам находящийся в нем «яд». Не воспринимая, в противоположность парадигме всеединства, этот «яд» метафизически необходимым, концепция Бухарева фактически столь же серьезно недооценивает его возможную разрушительную силу.
Бухарев утверждает, что все принадлежит Христу, в Нем «все действительное имеет свое жизненное основание» и вне Его «ничего не возможно»65. Это должно означать, что и страсть, как греховный навык, или, — в чем суть понятия греха, — навык «промаха»66 мимо цели, систематическое уклонение от пути к Богу, либо не есть «действительное» (поскольку не может принадлежать Христу), либо есть искажение того, что Христу однозначно принадлежит, но, в искажении своем, у Него тщетно похищается тварной свободной волей. Вопрос в существе своем стоит так: может ли тварная богоподобная свободная воля создать в Бытии нечто принципиально иное , расходящееся с замыслом Творца, некоторый иной модус Бытия, который, будучи уже онтологической реальностью, во Христе, тем не менее, не имеет своего «зиждительного основания». В системе Бухарева на это вопрос следует ответить однозначно отрицательно, поскольку, как он отмечает, Сын Божий «по предвечному существу своему есть творческое основание бытия всякой твари»67. И «никакая тварь никогда не выступает из-под своих условий, сокровенных в творческих мыслях Вечного»68.
Из последователей идеи всеединства, кажется, только Е. Н. Трубецкой, следуя одному из случайных замечаний В. Соловьева, пытался представить реальное бытие некоторых вещей (или существ), совершенно лишенных творческой Божественной идеи о себе и, следовательно, не имеющих основания в вечном Бытии69. В самой же парадигме всеединства все, не имеющее о себе творческой идеи, должно существовать, в метафизическом смысле, призрачно, или, по образу, данному Флоренским в «Столпе и утверждении Истины», как «мыльный пузырь, разрешающийся в каплю грязной воды»70. Для обоснования такой метафизики Флоренский, как известно, привлекал трактуемую по-своему (не по Канту) концепцию феноменально-ноуменальных соотношений в Бытии, в соответствии с которой ставшая предельно злой личность оказывается в положении феномена, отсеченного от своего ноуменального основания, и в таком своем положении утрачивает свою объективную реальность71.
Во всех подобных религиозно-философских или философско-богословских построениях «зло» (греховная страсть, систематический «промах», уводящий от цели) онтологически отделено от его носителя, как будто не «смешивается» с его естеством так, чтобы вызвать в нем серьезные «качественные» (иногда — необратимые) изме-нения72. Такое «зло» достаточно удалить, исторгнуть однажды полностью из Мира, и Мир при этом не потерпит никакого онтологического ущерба. Богословская концепция Бухарева отвечает такой метафизике всякий раз, когда раскрывает свой не только предельный христоцентризм, но именно предельный «панхристизм». Последний требует признания того положения, что во Христе имеет свое онтологическое основание не только все, что создано Им, но и все, что создано Его «собственностью» — человеком. И все, созданное человеком, рассматривается здесь по сути именно так, как будто содержащееся в его делах («плодах цивилизации») зло всегда остается ему чуждым, не способным вызвать глубокую (и, при отказе от «покаяния», необратимую) метаморфозу в его естестве. Во всяком случае, к такому выводу приводят достаточно многие высказывания Бухарева и, в частности, то, на которое, как на странное и нуждающееся в пояснениях, указывал еп. Феодор (Поздеевский)73. «В Его (Христа. — Н. П.) самоистощании за грехи нашей мысли, — писал Бухарев, — и за все наши грехи неисследимо сходились духовно бытие и небытие, входя одно в другое в тождестве или единстве Его „Я“… В этом совершилась тайна упразднения зла и лжи, в собственной их области (выделено Бухаревым. — Н. П.)»74. Это должно означать, что во Христе совершилась тайна уничтожения всей онтологической силы зла, которое уже не способно вызывать (и, тем более, доводить до предела) устремленные к небытию разрушительные процессы.
Бухарев отвергает все, явно греховное и противное Христу, и, в этом отношении, очевидно, ощущает опасность греха как радикального уклонения от Христа. Он решительно отрицает приписываемый ему критиком логический ход, когда из того, что «все может быть поприщем для служения Христу», следует, что нужно «во всем, даже греховном… видеть только служение Христу»75. Но он настаивает, что истинно верующий « во всем … видит по крайней мере отблеск мысли Слова, положительное или попусти-тельное Его определение (выделено Бухаревым. — Н. П. )»76. Раб, пишет он, «изгнанный из дома самим Отцом и Владыкой дома, вдруг, и притом на место как бы природного Его наследника — Израиля, открылся истинным во Христе сыном сего Отца». И «это все равно, как если бы в наше время область светских наук и искусств, политики и гражданства, торговли и земледелия оказались областью раскрытия Христовой истины и благодати, области духовно-благодатного преспеяния человека»77.
Серьезное упрощение реальной ситуации заключается в том, что, выступая против явного греха, Бухарев как будто не требует размежевания с уклонением от Христа не явным . Он не только не призывает христианина исследовать свою жизнь и деятельность на такие уклонения, но фактически игнорирует их в убеждении, что все это может быть освящено Христом при условии направленности на Христа «верующей мысли». «Существенный „интерес христианства“, — пишет он, — состоит в том, чтобы все и всё в человечестве приведено было под благодатное осенение и в общение любви Отца Небесного, простертой к человекам в Его Единородном Сыне»78. Если совершенно отделять «принадлежащее кесарю от следующего Богу», то тогда, по мысли Бухарева, вся земная жизнь постепенно будет удаляться от Бога, в ней не останется ничего «истинно доброго, полезного и прекрасного» и она, в конце концов, придет к «всегубительству»79. На возникающую здесь опасность смешения «Божиего» и «кесарева» не обращено никакого внимания, очевидно, в том же убеждении во всепобеждающей силе Христа, присутствующего во всем и освящающего все .
В одной из последних работ, разъясняющих и защищающих исповедуемое им учение, Бухарев отражал обвинения, очень похожие на те, которые стали выдвигаться в начале ХХ в. против свойственной метафизике всеединства теории как бы «запрограммированного» прогресса в воссоединении всего с Богом. «Мир и его развитие, — писал Бухарев, — никак не оказываются жертвою всевластного и всепоглощающего Высшего произволения, волею или неволею служа непременно исполнению этого произволения, как бы тяготеющего над нами и нравственно необходимого закона… Я разъясняю, что именно в силу собственного Христова (назначенного от вечности и действующего своим значением и духом от самого сложения мира) самопожертвования за мир… и обоснования на этом всех судеб мира, — в силу этого благодать Божия и раскрывается хотя и в строго последовательном и торжествующим над мирскими беспорядками порядка истинного развития человечества, но решительно без всякого подавления или насильственного увлечения человечества своим вмешательством»80. Здесь, как представляется, особенно хорошо видно, что Бухарев не собирался обосновывать свою систему представлением о какой либо особой, не сводимой только ко Христу реальности, находящейся на онтологической грани «между» миром и Богом и потому способной обеспечивать соединение всего с Богом. Бухарев вполне последовательно сводит все только ко Христу. Для него мир (и ничто в мире) не может почитаться «отверженною областью греха»81 не в силу заложенной в его основания «софийности», т. е. не вследствие того, что есть некая Божественная (или обо-женная) идеальная основа всего тварного бытия, а потому, что «в нашем мире от его сложения» действует «человеколюбие Агнца, заклавшегося за нас»82. Интуиции, отвечающие парадигме всеединства, у Бухарева формируются исключительно на основе его предельного «панхристизма», сопровождаемого особым и, как представляется, неосторожно рационализируемым восприятием Божественного Откровения об Агнцем Божием, закланном прежде создания мира.
Выводы
Проведенный обзор наиболее значимых трудов архимандрита Феодора, закончившего свое земное служение мирянином А. М. Бухаревым, конечно, не может считаться исчерпывающим для разрешения вопроса о действительном наличии в них основных положений, отвечающих предложенной в ХХ в. православному богословию парадигме всеединства. Представляется возможным сделать лишь предварительные выводы, в которых по своей значимости выделяются, прежде всего, два момента.
-
1. В своей заботе о христианском восприятии и христианском оправдании жизни и деятельности человечества в этом мире Бухарев исходит из Божественного Откровения о Христе как Агнцем Божием, взявшем на Себя и преодолевшем в Себе все грехи всего мира. Представляется возможным говорить о таких интуициях всеединства в концепциях Бухарева, которые все связаны исключительно с убеждением во всеобъемлющем значении Жертвы Христа, рассматриваемой как вневременная и абсолютно довлеющая над судьбами всего мира.
-
2. В попытке усвоить Христу все плоды современной человеческой цивилизации Бухарев не принимает во внимание традиционное, основанное на аскетическим опыте, христианское учение о разрушительной силе греховных пороков и страстей, способных качественно изменить и сделать не способным к соединению с Богом человеческое естество. В этом отношении его концепция может быть признана отвечающей метафизике всеединства, в которой воспринимаемое как «беспорядок» зло представляет собой чисто внешнюю по отношению к естеству реальность.
При этом приписываемое Бухареву некое прозрение в тайну Софии как особой онтологической реальности, связывающей мир с Богом (или стоящей на грани «между» Богом и миром), не обнаруживается, по крайней мере, в его основных работах, опубликованных в самом начале 1860-х гг. и в работе «Моя апология», напечатанной в 1865 г. Как основные тексты А. М. Бухарева, так и самое трагическое событие в его жизни, — никак не объяснимое с христианской «мистической» точки зрения отречение от монашества и священного сана, — свидетельствуют скорее о подмеченной свт. Филаретом Московским «мечтательности» бывшего архимандрита Феодора, чем о его духовно основательных и доброкачественных прозрениях в еще не ясно осознаваемые истины христианского миропонимания.
Список литературы К вопросу об интуициях метафизики всеединства в философско-богословском наследии архимандрита Феодора (А. М. Бухарева)
- Феодор (Поздеевский), еп. Отзыв ректора Московской духовной академии епископа Феодора (Поздеевского) о сочинении студента Писова Стефана на тему: «АрхимандритФеодор (Бухарев) и его богословские воззрения» // Архимандрит Феодор (Бухарев): pro et contra: Антология. СПб.: РХГИ, 1997. С. 582–584.
- Архангельский М., свящ. Рецензия на: «О Новом Завете Господа нашего Иисуса Христа. СПб., 1861» // Архимандрит Феодор (Бухарев): pro et contra: Антология. СПб.: РХГИ, 1997. С. 467–469.
- Архимандрит Феодор (Бухарев): pro et contra: Антология. СПб.: РХГИ, 1997.
- Б. Т. Б-в. Рецензия на книгу: «О современных духовных потребностях мысли и жизни, особенно русской. М., 1865» // Архимандрит Феодор (Бухарев): pro et contra: Антология. СПб.: РХГИ, 1997. С. 491–499.
- Балакай А., прот. Архимандрит Феодор (Бухарев) и его богословие // Христианское чтение. 2008. № 29. С. 171–200.
- Бердяев Н. А. О характере русской религиозной мысли XIX в. // Архимандрит Феодор (Бухарев): pro et contra: Антология. СПб.: РХГИ, 1997. С. 638–641.
- Бердяев Н. А. Русская идея // Архимандрит Феодор (Бухарев): pro et contra: Антология. СПб.: РХГИ, 1997. С. 642–644.
- Бухарев А. М. Моя апология. По поводу критических отзывов о книге «О современных духовных потребностях мысли и жизни, особенно русской» // Архимандрит Феодор (Бухарев): pro et contra: Антология СПб.: РХГИ, 1997. С. 42–88.
- Воронцова И. В. Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев) и проблема «плоти и духа» в «неохристианстве» (На материале писем к диакону А. А. Лебедеву) // Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. 2013. Вып. 2 (51). С. 7–22.
- Знаменский П. В. Печальное двадцатипятилетие // Архимандрит Феодор (Бухарев): pro et contra: Антология. СПб.: РХГИ, 1997. С. 342–364.
- Карпов А. А. М. Бухарев (Архимандрит Феодор) // Путь. 1930. № 23 (Август). С. 25–40.
- Левицкий С. А. Очерки по истории русской философской и общественной мысли // Архимандрит Феодор (Бухарев): pro et contra: Антология. СПб.: РХГИ, 1997. С. 690–692.
- Лукьянов С. М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии. Кн. 1. Пг., 1916.
- Новый энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: В 29 т. СПб (Пг.): Тип. Акционерного общества «Брокгауз-Ефрон», 1911–1916. Т. 8.
- Павел Флоренский и символисты. Опыты литературные. Статьи. Переписка / Сост., подг. текстов и коммент. Е. В. Ивановой. М., 2004.
- Павлюченков Н. Н. Жизнь и деятельность архимандрита Феодора (Бухарева) в оценках священника Павла Флоренского // Филаретовский альманах. Вып. 18. М.: Изд-во ПСТГУ, 2022. С. 88–107.
- Розанов В. В. Аскоченский и архимандрит Феодор Бухарев // Архимандрит Феодор (Бухарев): pro et contra: Антология. СПб.: РХГИ, 1997. С. 526–548.
- Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве. Статьи. Стихотворения и поэма. Из «Трех разговоров…»: Краткая повесть об Антихристе / Сост. и примеч. А. Б. Муратова. СПб.: Художественная лит., 1994.
- Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева: В 2 т. Т. 1. М.: Путь, 1913.
- Феодор (Бухарев), архим. Исследование Апокалипсиса // Богословский вестник. 1913. Т. 2. № 10.
- Феодор (Бухарев), архим. Письма к о. протоиерею Валериану Викторовичу Лаврскому и его супруге Александре Ивановне // Богословский вестник. 1917. Т. 1. № 4/5.
- Феодор, архим. Несколько статей о святом апостоле Павле. СПб., 1860.
- Феодор, архим. О православии в отношении к современности, в разных статьях. СПб., 1860.
- Феодор, архим. Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. СПб., 1860.
- Филарет, митр. Собрание мнений и отзывов: В 5 т. Т. V. Ч. 1. СПб., 1887.
- Флоренский П. А. Сочинения. Т. 1 (1). Столп и утверждение Истины. М.: Правда, 1990.
- Флоренский П. В. Обретая путь. Павел Флоренский в университетские годы: В 2 т. Т. 1. М.: Прогресс-Традиция, 2011.
- Флоренский П., свящ. Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев) // Архимандрит Феодор (Бухарев): pro et contra: Антология. СПб.: РХГИ, 1997. С. 585–637.
- Флоренский П., свящ. Письмо Б. Э. Нольде от 10 марта 1918 г. // Литературная учеба. 1990. № 1. С. 77–78.
- Флоровский Г. прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.
- Хондзинский П., прот. Попущение как акт Божественного кенозиса в мысли А. М. Бухарева // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2021. № 33. С. 113–128.
- Хондзинский П., прот. Становление мысли архимандрита Феодора (Бухарева) об оправдании культуры: попытка реконструкции // Филаретовский альманах. 2022. Вып. 18. С. 74–85.
- Хондзинский П., прот., Павлюченков Н. Н., Медоваров М. В., Гаврилов И. Б. Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского (1882–1937): pro et contra. Материалы круглого стола научного проекта Издательства СПбДА «Византийский кабинет». К 140‑летию со дня рождения и 85‑летию со дня трагической кончины выдающегося русского мыслителя // Русско-Византийский вестник. 2023. № 1 (12). С. 24–50.