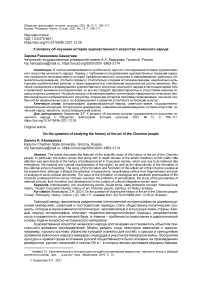К вопросу об изучении истории художественного искусства чеченского народа
Автор: Зарема Рахмановна Хамзатова
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности научного исследования истории художественного искусства чеченского народа. Наряду с глубокими исследованиями художественных традиций народных промыслов непосредственно истории профессионального искусства в кавказоведении уделялось незначительное внимание, что было связано с относительно поздним его возникновением, национально-культурными особенностями региона, а также прерывностью становления национальной школы живописи. Изучение становления и формирования художественного искусства чеченского народа в настоящее время хоть и привлекает внимание исследователей, но все же страдает фрагментарностью и отсутствием анализа социокультурных доминант. Не решен вопрос становления идейно-эстетических предпосылок чеченского профессионального изобразительного искусства, открытыми остаются проблемы периодизации, изучения особенностей национальных школ, их формирования и развития в контексте интеграции культур.
Историография, дореволюционный период, советское время, государственно-охранительная концепция, историческое краеведение, современное кавказоведение, история искусства, чеченский народ, живопись, искусствоведческий анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/149138831
IDR: 149138831 | УДК: 7.03(470.661) | DOI: 10.24158/fik.2021.12.26
Текст научной статьи К вопросу об изучении истории художественного искусства чеченского народа
,
Границей между признанным разделением отечественной историографии на дореволюционный (имперский), советский и постсоветский периоды стали общественно-политические процессы, которые в корне изменили политическую, экономическую и культурную жизнь страны. Каждый период историографии отличают теоретико-методологические подходы, репрезентативность и корректность источниковой базы, а главное – особенности осмысления и идеологической основы подачи конкретно-исторического материала.
Художественное искусство чеченского народа долгое время не становилось объектом пристального внимания исследователей. Можно увидеть лишь некоторые замечания о красоте, например, горского костюма, убранства кунацкой (комнаты для гостей), о красках и причудливом орнаменте войлочных ковров в мемуарах очевидцев и участников Кавказской войны. Восприятие культуры и нравов горцев в сознании русской общественности было основано на произведениях декабристов, русских писателей и поэтов XIX в.1, в которых авторы воспевали вершины Кавказа, восхищались особой горской ментальностью и были полны уважения к суровой красоте быта и ее гармонии с окружающей природой.
Начало академическому кавказоведению было положено Петербургской академией наук (экспедиции И.Г. Гюльденштедта, И.П. Фалька, Л.Л. Шредера, Я. Рейнеггса, Г.Ю. Клапрота и др.)1. Дореволюционная историография второй половины XIX в. связана с исследованиями, подчиненными задачам военно-топографического и экономического описания районов Северного Кавказа2 (Бларамберг, 1999). Одной из тенденций дореволюционной историографии было исследование культуры северокавказских народов посредством доминирования синтезированного названия «горцы», «горские народы»3, сложившейся на представлении о Кавказе «как едином историкокультурном регионе»4. Данное обстоятельство приводило к акцентированию внимания на типологической схожести и проведению широких аналогий.
На рубеже веков появляются исследования этнографического характера, в которых вопросы искусства рассматриваются в рамках бытования народных кустарных промыслов. Так, в работах О.В. Марграфа, Г. А. Вертепова, П.Л. Лысенкова, А.С. Пиралова и других в контексте описания декоративно-прикладного искусства чеченцев уделяется внимание специфике орнаментального декора5.
Кризис общероссийской власти 1917 г., приведший к коренному переустройству государства и комплексным изменениям общественной жизни бывших российских подданных, способствовал активизации политической и социокультурной деятельности северокавказских народов, их национально-государственному развитию. Не меньшие изменения произошли и в отечественной историографии. Осмысление истории национальных окраин стало вестись с позиции интернациональной сущности, как революционных преобразований, так и исторических основ культуры кавказских народов.
В 1920–1930-х гг. в историографии формируется тенденция к переходу от «простой фиксации и накопления фактов к обобщению и появлению первых исторических концепций, складыванию научной традиции изучения Северного Кавказа» (Колесникова, Бондаренко, Рясная, 2014: 70). В 1920-х гг. утверждается научное понятие «краеведение», рождается научная историческая школа краеведения, наблюдается подъем данного движения в стране. В его рамках проводятся широкие краеведческие исследования, этнографические и фольклорные изыскания в национальных советских республиках, ставшие впоследствии основой для дальнейших историко-культурных исследований6.
Так, например, были созданы Северо-Кавказское краеведческое общество археологии, истории и этнографии (существовавшее ранее как Ростовское общество истории, древностей и природы (1909–1917 гг.)), а в 1926 г. – Северо-Кавказский краевой музей горских народов. В ходе художественно-этнографических экспедиций по Северному Кавказу, организованному этими учреждениями в 1924–1925 гг. в аулах Чечни начинают работать русские художники Ф.М. Черно-усенко и В.С. Шлепнев, а в Ингушетии – художник-архитектор И.П. Щеблыкин. Художники, выполняя точные зарисовки с натуры, фиксируют реалистичные образы народов, их быт, среду обита- ния, традиционные элементы культуры. Циклы зарисовок дают ясное представление о технологии кустарного производства. Получившаяся в итоге коллекция из 463 цветных и черно-белых рисунков, выполненных в различной технике1, отражала повседневность горской жизни. «Вероятно, было рекомендовано меньше внимания уделять пейзажам и сосредоточиться на отражении реалий традиционной культуры, что имело первостепенное значение»2.
Общая тенденция советской живописи 1930-х гг. в автономных республиках была продиктована идеологией большевистской партии: умеренность во всем национальном, этническом в противовес эстетике горского уклада жизни и исторических моментов, определяющих судьбу народа. Художники интересуются людьми, жизнь которых непосредственно связана с историческими событиями недавнего прошлого на Северном Кавказе. Так, Ф.М. Черноусенко создает портрет участника чеченского восстания 1905 г. Абдурахмана Дозаева, под впечатлением от рассказов о религиозном деятеле Кунта-Хаджи Кишиеве художник делает акварелью наброски дерева, под которым шейх совершал молитвы.
В следующее десятилетие историческое краеведение перестает развиваться как научное направление, ограничившись простым собиранием материалов и выпуском юбилейных сборников. «Различные по характеру и структуре, они были направлены на освещение итогов экономического, политического и культурного развития автономных образований Северного Кавказа и практически не затрагивали тему истории его изучения» (Колесникова, Бондаренко, Рясная, 2014: 71).
Уже с середины 1930-х гг. взгляд на историю северокавказских народов как нельзя ярко иллюстрирует зависимость советской исторической науки от изменений политической жизни страны. В 1934 г. проводится объединение Чеченской и Ингушской автономных областей в одну, а затем, в 1936 г., создается Чечено-Ингушская автономная советская социалистическая республика.
Со второй половины 1930-х гг. в советском государстве складывается охранительная концепция отечественной истории, дошедшая с видоизменениями практически до последней четверти ХХ в. Сдвиги в отечественной историографии были связаны с изменениями в общественном развитии периода Великой Отечественной войны и послевоенными преобразованиями в СССР.
Смена политических ориентиров советского времени сказалась как на отечественной исторической науке в целом, так и на содержании и инфраструктуре кавказоведения. Так, научное исследование в отношении чеченского народа, как, впрочем, и ряда других народов Кавказа, «начавшееся в первой четверти XX века усилиями ученых лингвистов, археологов, этнографов и историков (Г.К. Мартиросиан, Е.И. Крупнов, А.Н. Яковлев, А.Н. Генко, Б. Далгат, Д.К. Мальсагов, А.Г. Авторханов, Г.Н. Кокиев), было прервано почти на 20 лет Великой Отечественной войной 1941–1945 гг. и депортацией чеченцев, ингушей сталинским режимом в Казахстан и Среднюю Азию» (Ахмадов, 2006: 26).
В духе консервативных тенденций историографии позднего советского времени (1960– 1980 гг.) выходят в свет обобщающие труды по отечественной и всеобщей истории, в которых акцент делался на объективно прогрессивных последствиях присоединения / вхождения отдельных народов с состав России. Определенное внимание проблеме культурного строительства уделялось авторами коллективных трудов, исследовавшими общие вопросы истории чеченского и ингушского народов. Так, разработка данной темы была представлена в совместных научноисследовательских монографиях в рамках истории народов Северного Кавказа3, очерков истории Чечено-Ингушской АССР4. В данных работах рассматривалась эволюция народного декоративно-прикладного искусства, исследовались особенности и тенденции его развития. В этот период начинает действовать плеяда местных ученых, в том числе и в сфере культурно-антропологических и этнографических изысканий5.
Историография этого времени наполнена исследованиями, посвященными вопросам культурного строительства в годы становления советской власти. В них ученые рассматривали элементы такого широкого системного образования, как культура – история ликвидации неграмотности и формирования системы образования, становление советской интеллигенции в сфере литературы и языка, театрального искусства, исторической науки, деятельность культурно-просветительных учреждений, советской печати, радио и телевидения и т. д.1 (Исаева, 2012). Появляются издания непосредственно искусствоведческого профиля, которые, как правило, выполнены в виде альбомов, каталогов или буклетов выставок художественных произведений2.
Первая научная работа в разрезе искусствоведческого анализа, посвященная жизни и творчеству П.З. Захарова, вышла в свет в 1961 г.3. Интерес к творчеству этого выдающегося мастера кисти прослеживается на всем протяжении конца XIX – первой четверти XX в., однако специальные исследования появились лишь в советское время, начиная с 60-х гг. XX в.4. Живопись, как и судьба первого чеченского живописца, воспитанника, а затем и академика Санкт-Петербургской академии художеств, связана с «разработкой очень важной проблемы в истории русского искусства – становления русского живописного реализма» (Мазаева, 2016: 9).
Распад Советского Союза обусловил освобождение научных изысканий от давления марксистско-ленинской концепции, позволил расширить тематику, выйти на междисциплинарный уровень исследований. В этих условиях региональная историография сделала рывок вперед, посвятив много сил изучению своей истории и культуры. Так, отмечается активность в вопросе исследований традиционного народного искусства5 (Алироев, 1994; Багаев, 2008; Ахмадов, 2009).
Незначительное внимание к проблеме истории становления собственно профессионального искусства живописи связано с несколькими факторами: относительно поздним его возникновением, национально-культурными особенностями региона, а также прерывностью становления национальной школы живописи.
Так, искусство здесь, выступая как часть практической деятельности, как отклик на специфические потребности жизни, обладало эстетическим постоянством, устойчивыми национальными компонентами, уходящими корнями в глубокую древность. Предкам чеченцев были известны кузнечное ремесло и сложные приемы обработки металла (фигурная ковка, художественное литье, инкрустация и др.), гончарное и деревообрабатывающее производства, искусство резьбы по камню, шерстяного валяния и золотого шитья. Относительное постоянство художественно-эстетических представлений чеченского народа было скорректировано исламизацией, прошедшей в регионе в период со второй половины VII по XVIII в. Включение в орбиту влияния мусульманской культуры с запретом изобразительности в определенной мере пагубно сказалось на развитии искусства чеченского народа. С одной стороны, это повлияло на бурный рост орнаментальных мотивов, ярко проявившихся в декоративно-прикладном искусстве. С другой стороны, жесткие рамки религиозных канонов в совокупности с местным комплексом морально-этических норм закрыли возможность развивать местное изобразительное искусство. Однако изобразительные сюжеты и мотивы явственно проступили в архитектурном декоре и художественном убранстве произведений народного искусства.
Следующим фактором, повлиявшим на формирование изобразительного искусства чеченского народа, следует назвать происходившую на рубеже веков «трансплантацию в северокавказскую культуру российского просвещения и русской национальной культуры, затронувшей в предыдущий период лишь часть горской элиты, принявшей русскую ориентацию» (Черноус, 1999: 19). Включение региона в сферу влияния Российской империи с последующей военной колонизацией северокавказских мусульманских народов, сопровождавшейся агрессивными методами культурной ассимиляции и аккультурации, приводила к ломке традиционных духовных представлений.
Именно к этому периоду относят становление этнически горской светской интеллигенции, формирующейся в лоне российской цивилизации. Учитывая, что услугами общеобразовательных учреждений, которые начали появляться в регионе лишь в начале XX в., могло воспользоваться ограниченное количество горцев, то получение профессионального образования, тем более художественного, было практически закрыто. Даже в имеющихся школах отмечалось «слабое развитие русской речи, недостаточное овладение механизмом чтения и беглым счетом»1. В этом контексте появление в мире искусства выдающегося художника Петра Захарова (1816– 1846), с имени которого необходимо вести отсчет истории становления профессиональной чеченской живописи, было редким и трагическим исключением.
Изучение становления и формирования профессионального изобразительного искусства чеченского народа в настоящее время привлекает внимание исследователей. В частности, в монографии Т. Бойцовой рассмотрены вопросы истории становления изобразительного искусства Чечни (Бойцова, 2018). Современная научная мысль часто затрагивает некоторые аспекты искусства живописи (Акиева, 2008: 86–104; Бадаева, 2018), акцентирует внимание на творчестве отдельных художников (Ibragimov et al., 2019), без выделения социокультурных доминант и художественных идей конкретной эпохи (Ильясов, 2009; Музакаев, 2012).
Таким образом, историография искусства чеченского народа была подвержена политической конъюнктуре, довлевшей над всей наукой. Если дореволюционная историография во многом не испытывала потребности отмечать эстетические стороны предметов традиционного декоративно-прикладного искусства, особенности орнаментального искусства, то в постсоветское время, с которым связано появление первой плеяды профессиональных чеченских художников, еще не сложились традиции искусствоведческого анализа. Основная проблема состоит в отсутствии комплексных фундаментальных работ, посвященных истории развития художественного искусства чеченского народа в целом и одного из его видов – изобразительного искусства, в частности. Не решен вопрос становления идейно-эстетических предпосылок чеченского профессионального изобразительного искусства, открытыми остаются проблемы периодизации, изучения особенностей национальных школ, их формирования и развития в контексте интеграции культур, т. е. всех тех научных задач, которые определяются главными в современном искусствознании.
Список литературы К вопросу об изучении истории художественного искусства чеченского народа
- Акиева Х.М. Изобразительное искусство Чечни и Ингушетии первой половины XIX в. (традиции и новаторство) // Вестник Московского университета. Сер. 8: История. 2008. № 4. С. 86–104.
- Алироев И.Ю. История и культура чеченцев и ингушей. Грозный : Ичкерия, 1994. 207 с.
- Ахмадов Я.З. Очерк исторической географии и этнополитического развития Чечни в XVI–XVIII веках. М. : Благотворит. фонд поддержки чечен. лит., 2009. 422 с.
- Ахмадов М. Чеченская традиционная культура и этика. Грозный, 2006. 206 с.
- Багаев М.Х. Культура горной Чечни и Дагестана в древности и средневековье. VI в. до н. э. – XII в. н. э. М. : Наука, 2008. 455 с.
- Бадаева Л.А. Женские образы в творчестве художников // Кавказский мир: проблемы образования, языка, литера-туры, истории и религии : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» / отв. Ред. М.Р. Нахаев. 2018. С. 68–72
- Бадаева Л.А. Накануне (образ абрека Зелимхана в творчестве чеченских художников) // Известия Чеченского государственного университета. 2018. № 2 (10). С. 132–137.
- Бларамберг И. Историческое, топографическое, статистическое и этнографическое описание Кавказа. Нальчик : Эль-фа, 1999. 403 с.
- Бойцова Т.И. Изобразительное искусство Чеченской Республики. Грозный : АО «Издательско-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2018.
- Ильясов Л. Культура чеченского народа. М. : ЮНЕСКО и Благотворительный фонд имени Зии Бажаева, 2009. 264 c.
- Исаева Р.М. Становление и развитие науки // Чеченцы. Сер.: Народы и культуры : коллектив. моногр. М. : Наука, 2012.
- Колесникова М.Е., Бондаренко Н.Г., Рясная Ю.О. К вопросу об изучении Северного Кавказа (1920–1930 гг.) // Научно-информационный журнал Армия и общество. 2014. № 6 (43). С. 43–46.
- Мазаева Т. Академик живописи Захаровъ – чеченецъ изъ Дада-Юрта. М., 2016. 303 с.
- Музакаев Д. Чеченская культура – от традиционности до современности. Грозный : ФГУП «Издательско-полиграфический комплекс», 2012. 280 с.
- Черноус В.В. Россия и народы Северного Кавказа: проблемы культурно-цивилизационного диалога // Научная мысль Кавказа. 1999. № 3 (19).
- Studying Life and Creative Work of Academician of Painting Pyotr Zakharov-Chechen / K.Kh. Ibragimov [et al.] // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. Conference: SCTCGM 2018 – Social and Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism. 2019. С. 2128–2133. DOI: https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.03.02.246