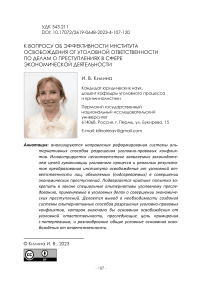К вопросу об эффективности института освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности
Автор: Килина И.В.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
Анализируются направления реформирования системы альтернативных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов. Иллюстрируется несоответствие заявляемых законодателем целей гуманизации уголовного процесса и реальных результатов преобразования института освобождения от уголовной ответственности лиц, обвиняемых (подозреваемых) в совершении экономических преступлений. Подвергается критике попытка закрепить в законе специальные альтернативы уголовному преследованию, применяемые в уголовных делах о совершении экономических преступлений. Делается вывод о необходимости создания системы альтернативных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов, которая включала бы основания уголовной ответственности, преследующие освобождения от цель примирения с потерпевшим, и разнообразные общие условные основания освобождения от ответственности.
Альтернативы уголовному преследованию, освобождение от уголовной ответственности, прекращение уголовного дела, гуманизация уголовного судопроизводства
Короткий адрес: https://sciup.org/147242787
IDR: 147242787 | УДК: 343.211 | DOI: 10.17072/2619-0648-2023-4-107-120
Текст научной статьи К вопросу об эффективности института освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности
З аконодатель находится в поиске наиболее эффективных и многооб‐ разных способов разрешения уголовно‐правовых конфликтов. Сего‐ дня множество материальных и процессуальных правовых институтов ра‐ ботают на то, чтобы обеспечить индивидуальный подход к разрешению каждого уголовного дела и решить вопрос об уголовной ответственности и наказании таким образом, чтобы декларированные законодателем цели были достигнуты. В числе институтов, позволяющих индивидуализировать ответственность: обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; изменение судом категории совершённого преступления; освобождение от наказания; условное осуждение; назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление; а также многообразие преду‐ смотренных в процессуальном законе дифференцированных процедур, по‐
___________________________________________________ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ зволяющих учитывать отношение к предъявленному обвинению, возраст обвиняемого и т.д.
Отдельное внимание следует обратить на закрепление в законе норм, обеспечивающих альтернативную реакцию на совершённое преступление – не связанную с традиционным осуждением и наказанием. Альтернативный способ разрешения уголовно‐правового конфликта предполагает прерыва‐ ние уголовного процесса до разрешения судом вопроса о виновности, не‐ смотря на отсутствие каких‐либо юридических или фактических препятствий для полной реализации уголовной ответственности. В России альтернативное разрешение уголовного дела осуществляется путем освобождения лиц от уголовной ответственности и прекращения в их отношении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, позволяющим определить целесообразность реализации уголовной ответственности на основе оценки поведения лица после совершения им впервые преступления небольшой или средней тяжести. Активная деятельность подозреваемого, обвиняемого мо‐ жет быть выражена в его примирении с потерпевшим, возмещении ущерба или ином заглаживании вреда, явке с повинной, способствовании раскрытию и расследованию преступления. В свою очередь должностное лицо, в чьем производстве находится уголовное дело, может оценить такое поведение и, убедившись в том, что лицо, совершившее преступление, утратило обще‐ ственную опасность и его исправление возможно без постановления обвини‐ тельного приговора, принять решение об освобождении его от уголовной ответственности на основании статей 75, 76, 76.1, 76.2, 90 Уголовного кодекса Российской Федерации1. Такой подход не предполагает разрешения вопроса о виновности лица, однако, в связи с нереабилитирующим характером пре‐ кращения уголовного дела (уголовного преследования), требует получения согласия лица и подробного разъяснения ему последствий прекращения уголовного дела (уголовного преследования).
Вместе с тем на сегодняшний день не приходится рассуждать о том, что перечень альтернатив уголовному преследованию, закрепленный в за‐ коне, оптимален и не нуждается в дальнейшем совершенствовании. Уче‐ ные, правоприменитель и законодатель, актуализируя тему альтернатив‐ ных способов разрешения уголовно‐правовых конфликтов, высказывают критические замечания в адрес существующих альтернатив и вносят предложения по введению новых механизмов разрешения криминальных конфликтов2. В последнее время широко обсуждается сразу несколько за‐ конопроектов о внесении соответствующих изменений в материальное и процессуальное уголовное законодательство. В частности, широкую огла‐ ску получило выдвинутое Верховным Судом РФ уже второе по счету пред‐ ложение о введении института уголовного проступка (15 февраля 2021 го‐ да в Государственную Думу ФС РФ был внесен проект федерального зако‐ на № 1112019‐7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголов‐ но‐процессуальный кодекс РФ в связи с введением понятия уголовного проступка»). Кроме того, группой ученых во главе с С. А. Пашиным разра‐ ботан и представлен для обсуждения проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе‐ дерации для обеспечения потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому возможности примирения»3, предусматривающий применение в уголов‐ ном процессе примирительных, в том числе медиативных, процедур. Большое внимание уделяется указанной теме в доктрине4. В 2017 году Правительством РФ также была предпринята попытка внедрения в уго‐ ловный процесс медиативных процедур, однако представленный проект федерального закона не нашел дальнейшей поддержки в связи с его по‐ верхностным подходом к определению места, роли и правового статуса
___________________________________________________ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ медиатора в уголовном процессе5. Наконец, серьезным шагом в сторону расширения сферы применения института альтернативного разрешения уголовно‐правового конфликта стало закрепление в законе в марте 2023 года нового основания отказа в возбуждении уголовного дела – уплаты в полном объеме сумм недоимки и соответствующих пеней, суммы штрафа в порядке и размере, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законодательством Рос‐ сийской Федерации об обязательном социальном страховании от несчаст‐ ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на осно‐ вании части 1 статьи 76.1 УК РФ (п. 7 ч. 1 ст. 24 Уголовно‐процессуального кодекса РФ6).
Требует ответа вопрос о том, в каком направлении следует двигаться, совершенствуя систему альтернатив уголовному преследованию: идти по пути создания универсальных институтов, распространяющих действие на все преступления небольшой и средней тяжести, совершённые лицом впервые, или заниматься поиском иных критериев, конкретизирующих зону примене‐ ния отдельных альтернатив?
Сегодня имеет место иллюстрация и первого, и второго подходов за‐ конодателя. Такие традиционные для российского права институты, как прекращение уголовного дела и освобождение от уголовной ответствен‐ ности в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим и в связи с назначением несовершеннолетнему принудительных мер воспита‐ тельного воздействия, применимы в случаях, когда совершённое преступле‐ ние относится к категории преступлений небольшой или средней тяжести. К их числу присоединился и появившийся в 2016 году институт прекраще‐ ния уголовного дела в связи с назначением лицу меры уголовно‐правового характера в виде судебного штрафа. Перечисленные институты можно обо‐ значить как общие альтернативные основания освобождения от уголовной ответственности.
Иная тенденция наметилась применительно к альтернативам уголов‐ ному преследованию по делам, связанным с преступлениями в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Закрепление в законе комплекса льготных норм, направленных на обеспечение особых правовых гарантий при производстве по уголовным делам в сфере эконо‐ мической деятельности, выступает самостоятельным направлением гума‐ низации уголовного судопроизводства. В рамках этого направления разви‐ тия уголовной и уголовно‐процессуальной политики в 2009 году законода‐ тель предусмотрел институт освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела в связи с возмещением ущерба. Нельзя, ко‐ нечно, не упомянуть, что с момента принятия статья 28.1 УПК РФ претерпе‐ ла десятки изменений. Внесение изменений и дополнений в УПК РФ, закре‐ пляющих специальные правила производства по указанной категории дел в рамках концепции общей гуманизации уголовного судопроизводства, стало в последнее десятилетие неизменной традицией.
Вместе с тем специальное основание освобождения от уголовной от‐ ветственности едва ли можно охарактеризовать как гуманное. Так, законо‐ датель в статье 28.1 УПК РФ во взаимосвязи со статьей 76.1 УК РФ закрепля‐ ет три самостоятельных основания прекращения уголовного дела и для ка‐ ждого из них предусматривает особые условия, при соблюдении которых допускается освобождение от уголовной ответственности. В зависимости от того, какое из перечисленных в частях указанных норм преступление имело место, определяется размер ущерба, подлежащего возмещению, а для пре‐ ступлений, перечисленных в части 2 статьи 76.1 УК РФ, также и размер де‐ нежной суммы, подлежащей уплате сверх суммы ущерба7. Можно конста‐ тировать, что освобождение от уголовной ответственности в связи с возме‐ щением ущерба не оказалось востребованным. Так, за последние три года судами на этом основании уголовное преследование было прекращено в отношении 316 лиц, в то время как по иным альтернативным основаниям случаи прекращения уголовного преследования исчисляются тысячами и десятками тысяч, что проиллюстрировано в таблице 1.
Таблица 1
Прекращение уголовного преследования, кол‐во дел в год
|
Основание прекращения уголовного преследования |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Деятельное раскаяние (ст. 28 УПК РФ) |
11 991 |
8 889 |
7 258 |
11 606 |
12 130 |
|
Примирение с потерпевшим (ст. 25 УПК РФ) |
125 873 |
106 091 |
99 115 |
103 649 |
105 409 |
|
Применение принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 431 УПК РФ) |
2 295 |
2 320 |
1 821 |
1 526 |
1 220 |
|
Возмещение ущерба по делам экономической направленности (ст. 28.1 УПК РФ) |
31 |
62 |
59 |
72 |
93 |
|
Назначение меры уголовно‐ правового характера в виде судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ) |
33 329 |
52 460 |
56 980 |
36 685 |
20 310 |
Думается, причина непопулярности института – в несовершенстве за‐ конодательной техники, которая привела к тому, что задуманная в качестве гуманной мера на выходе получилась репрессивной. Кроме того, представ‐ ляется не оправдавшим себя перечневый подход к определению сферы при‐ менения института. Законодатель привел исчерпывающий список преступле‐ ний, совершив которые лицо подлежит освобождению от уголовной ответст‐ венности на основании статьи 76.1 УК РФ (причем при выполнении всех усло‐ вий в императивном порядке). Основываясь на классических постулатах тео‐ рии права, можно прийти к выводу, что прекращение уголовного дела в свя‐ зи с возмещением ущерба является специальным основанием, а потому под‐ лежит применению в тех случаях, когда речь идет о преступлениях, перечис‐ ленных в статьях 28.1 УПК РФ, 76.1 УК РФ. В соответствии с указанной логикой при решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности за со‐ вершение, к примеру, преступления, предусмотренного статьей 176 УК РФ (незаконное получение кредита), лицу должно быть разъяснено, что оно бу‐ дет освобождено от ответственности в случае, если возместит кредитной ор‐ ганизации ущерб, а в пользу государства выплатит возмещение, равное дву‐ кратной сумме ущерба (двукратной сумме доходов от преступления или убытков, которых удалось избежать, и т.д.). Согласно примечанию к ста‐ тье 170.2 УК РФ, применительно к статье 176 УК РФ «крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере
КИЛИНА И. В. ____________________________________________________________________ признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превы‐ шающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей». Думается, подсчет суммы, необходимой предпринимателю для освобождения от уголовной ответственности, является излишним. Совершенно очевидна несоизмери‐ мость этой суммы с размерами санкций статьи 176 УК РФ, предусматри‐ вающих для квалифицированного состава незаконного получения кредита (ч. 2 ст. 176 УК РФ) максимальный штраф в размере 300 тыс. рублей. Такая альтернатива уголовному преследованию для лица, целью деятельности которого является извлечение прибыли, вряд ли покажется заманчивой. Можно возразить, что санкции частей 1 и 2 статьи 176 УК РФ предусматри‐ вают и лишение свободы, однако для лица, впервые совершившего престу‐ пление, объективные перспективы получить столь серьезное наказание не‐ очевидны.
Если исходить из того, что специальная норма отменяет действие об‐ щей, получается, что лишение лиц, совершивших преступления, перечислен‐ ные в статьях 28.1 УПК РФ и 76.1 УК РФ, возможности быть освобожденными от уголовной ответственности по иным основаниям, не связанным с претер‐ певанием столь серьезных негативных последствий, в корне противоречит гуманному посылу (руководство которым и предопределило введение спе‐ циального основания освобождения от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба). Отсюда появление позиции Верховного Суда РФ, компенсирующей непродуманность законодательных конструкций, в силу которой «в случаях выполнения не всех или не в полном объеме действий, предусмотренных статьей 76.1 УК РФ, лицом, совершившим преступление небольшой или средней тяжести в сфере предпринимательской и иной эко‐ номической деятельности, его ходатайство о прекращении уголовного пре‐ следования по основаниям, предусмотренным статьями 75, 76 или 76.2 УК РФ, может быть удовлетворено судом при условии выполнения содержа‐ щихся в указанных нормах требований» (п. 15.1 постановления Пленума Вер‐ ховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 198). Таким образом, специальная норма для предпринимателей предусматривает более обременительные условия для освобождения от уголовной ответственности, чем общие нор‐ мы, что ставит под сомнение необходимость закрепления специального основания освобождения от уголовной ответственности.
Отметим также, что составление перечня преступлений, отвечающих единым критериям и потому подлежащих объединению для целей отдель‐ ного института, является архисложной задачей. Подтверждение тому не совсем удачная попытка закрепления такого списка в процессе разработки института освобождения от уголовной ответственности за экономические преступления.
Совершенствование статей 28.1 УПК РФ и 76.1 УК РФ исходя из содер‐ жания пояснительных записок к законопроектам, которыми инициировались изменения перечисленных норм, раз за разом направлено на «создание до‐ полнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уго‐ ловного преследования». Вместе с тем анализ судебной практики показыва‐ ет, что те немногочисленные уголовные дела, которые прекращены судами в связи с возмещением ущерба на основании части 2 статьи 28.1 УПК РФ, за‐ частую вовсе не связаны с предпринимательской или иной экономической деятельностью. Так, весьма распространено освобождение от уголовной ответственности лиц, обвиняемых в мошенничестве при получении выплат (например, Постановление Грозненского гарнизонного военного суда (Че‐ ченская Республика) № 1‐66/2020 от 30 июля 2020 г.; Постановление Мур‐ манского гарнизонного военного суда (Мурманская область) № 1‐29/ 2020 от 27 июля 2020 г.; Постановление Брянского гарнизонного военного суда (Брянская область) № 1‐14/2020 от 10 февраля 2020 г.; Постановление Курского гарнизонного военного суда (Курская область) № 1‐6/2020 от 7 фев‐ раля 2020 г.). Как видим, отсутствие ясных критериев применения нормы права привело к конечному несовпадению целей внедрения поощрительной нормы и реальной сферы ее применения.
Думается, повторное избрание подобного метода правового регули‐ рования (а именно он продемонстрирован в законопроекте об уголовном проступке) нельзя признать удачным. Наличие в статьях закона тяжеловес‐ ных списков преступлений, «приправленных» перечнем отдельных условий применения для каждого из них, делает нормы сложными для восприятия даже профессиональных юристов, что уж говорить об участниках процесса, не обладающих познаниями в области права.
Видится обоснованной позиция П. Г. Сычева, считающего подобный подход к правовому регулированию неэффективным. Исследователь точно замечает, что «законодатель и Верховный Суд РФ в течение девяти лет пы‐ тались разрешить фактически неразрешимую проблему: определить кате‐ горию деяний, совершаемых конкретной категорией лиц, на основе вида их
КИЛИНА И. В. ____________________________________________________________________ деятельности, то есть сформулировать предметный признак, избегая непо‐ средственно определения субъекта, при этом давая все более и более под‐ робную его субъективную характеристику, иными словами, формулируя предметно‐персональный признак»9.
Объективности ради отметим, что кое‐где гуманизация все же нашла отражение – правда, не в самом адекватном ее проявлении. Речь о положе‐ ниях части 1 статьи 28.1 УПК РФ во взаимосвязи с частью 1 статьи 76.1 УК РФ. Согласно позиции Пленума Верховного Суда РФ к лицам, впервые совер‐ шившим преступления, относятся и лица, которые ранее были освобождены от уголовной ответственности. Получается, что с учетом императивной конст‐ рукции освобождения от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба можно сколько угодно совершать преступления, а в случае возбуж‐ дения уголовного дела раз за разом освобождаться от уголовной ответствен‐ ности. Применительно, например, к основанию, закрепленному в части 1 ста‐ тьи 28.1 УПК РФ, это означает, что последствием криминальной неуплаты на‐ логов или страховых взносов будет являться лишь обязанность уплатить на‐ логи (страховые взносы), штрафы и пени, освободиться от ответственности и вновь не платить налоги до следующего уголовного дела. Одновременно с этим сама возможность уголовного преследования затруднена закреплени‐ ем специального повода для возбуждения уголовного дела. Так, нельзя не упомянуть о возвращении законодателя к возможности возбуждения уго‐ ловных дел по преступлениям, предусмотренным статьями 198–199.2 УК РФ, исключительно при наличии материалов, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для реше‐ ния вопроса о возбуждении уголовного дела (ч. 1.3 ст. 140 УПК РФ). Такое регулирование повышает латентность налоговых преступлений и выглядит как стимулирование не к позитивному постпреступному поведению, а к само́й преступной деятельности.
Думается, система оснований освобождения от уголовной ответствен‐ ности не нуждается в специальном случае, предусмотренном для предпри‐ нимателей или лиц, ведущих иную экономическую деятельность. Вместе с тем обеспечение плюрализма институтов, предоставленных в распоряжение правоприменителя в процессе решения вопроса о целесообразности уголов‐ ного преследования, позволит в большей степени гарантировать индивиду‐ альный подход к разрешению каждого уголовного дела. Повышение стан‐ дартов доказанности, обеспечение режима законности и строгое следование букве и духу закона при производстве по уголовным делам способны пре‐ дотвратить те проблемы, которые законодатель пытается решать путем вне‐ сения в УК и УПК многочисленных изменений и дополнений.
Систематизация апробированных в мировой практике альтернативных способов разрешения уголовно‐правовых конфликтов позволяет прийти к выводу о существовании двух их разновидностей. Первым системообразую‐ щим признаком выступает нацеленность процедуры на примирение сторон конфликта. Вторая группа альтернатив предполагает отказ от уголовного пре‐ следования взамен выполнения лицом определенных условий, соблюдение которых позволяет избежать традиционного уголовно‐правового воздейст‐ вия. Условия эти разнообразны: уплата денежной суммы в пользу государст‐ ва (общественной организации, потерпевшего), прохождение обучающих (реабилитирующих, лечебных) курсов и программ, выполнение общественно полезных работ, конфискация имущества и т.д. Поиск эффективных способов примирения обвиняемого и потерпевшего дал толчок такому правовому яв‐ лению, как восстановительная, или реституционная, юстиция. В основе вос‐ становительного подхода лежит поиск взаимоприемлемого разрешения конфликта, а также нацеленность на ресоциализацию лица и предотвраще‐ ние совершения им новых преступлений. Во многих российских регионах на‐ коплен богатый опыт внедрения восстановительных технологий в уголовное судопроизводство с участием несовершеннолетних (Липецкая область, Пермский край, Ростовская область и т.д.). Развитие института на местах де‐ лает перспективным дальнейшее нормативное закрепление апробирован‐ ных процедур. Наряду с этим законодатель предпринял активные шаги в сто‐ рону реформирования в рамках второй группы альтернатив, которые, как было упомянуто выше, являются условными. Так, относительно новым аль‐ тернативным основанием стало прекращение уголовного дела и освобожде‐ ние от уголовной ответственности в связи с применением судебного штрафа в качестве меры уголовно‐правового характера. Регулируют институт взаимо‐ связанные положения статьи 25.1 УПК РФ и статьи 76.2 УК РФ. С появлением указанных норм изменилось соотношение предпочитаемых правопримени‐ телем оснований освобождения от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших преступления небольшой или средней тяжести. Анализируя статистику освобождения от уголовной ответственности в России, можно за‐ метить, что количество уголовных дел, прекращенных в связи с примирением сторон, сокращается в унисон тому, как возрастает количество дел, прекра‐ щенных в связи с назначением судебного штрафа в качестве меры уголовно‐ правового характера, и наоборот.
Таблица 2
Прекращение уголовного преследования, кол‐во дел в год
|
Основание прекращения уголовного преследования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Примирение с потерпевшим (ст. 25 УПК РФ) |
157 316 |
135 956 |
125 873 |
106 091 |
99 115 |
103 649 |
105 409 |
|
Процент от общего числа лиц, в отношении которых вынесен судебный акт по существу обвинения |
16,0 |
15,0 |
14,6 |
13,3 |
13,7 |
14,0 |
14,2 |
|
Назначение меры уголовно‐ правового харак‐ тера в виде судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ) |
20 629 |
33 329 |
52 460 |
56 980 |
36 791 |
20 171 |
|
|
Процент от общего числа лиц, в отношении которых вынесен судебный акт по существу обвинения |
– |
2,2 |
3,8 |
6,6 |
7,8 |
4,9 |
2,7 |
|
Всего число лиц, в отношении которых вынесен судебный акт по существу обвинения |
981 798 |
902 950 |
858 015 |
794 020 |
721 502 |
738 005 |
738 705 |
Из приведенных статистических данных следует, что с закреплением в законе нового основания освобождения от уголовной ответственности ко‐ личественного прироста в применении института альтернатив уголовному преследованию не произошло, а значит, и существенного влияния с крими‐ нологической точки зрения внедрение нового института не оказало. Пред‐ ставляется, что прекращение уголовного дела с назначением меры уголовно‐ правового характера должно применяться не в тех уголовных делах, в кото‐ рых до появления статьи 25.1 УПК РФ уголовное дело прекращалось ввиду примирения сторон, а по большей части там и тогда, где и когда способ за‐ глаживания вреда для обвиняемого неочевиден (преступления с формаль‐ ным составом, двухобъектные преступления). В этой связи можно заметить, что институт освобождения от уголовной ответственности с назначением су‐ дебного штрафа как меры уголовно‐правового характера оказался куда бо‐ лее привлекательным в тех самых уголовных делах экономической направ‐ ленности. Для примера, законодатель предусмотрел возможность освобож‐ дать от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба на осно‐ вании части 2 статьи 76.1 УК РФ для преступлений, которые предусмотрены пунктом «б» части 2 статьи 171, частями 1 и 1.1 статьи 171.1, статьей 171.5, частью 1 и пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ. По данным, опубликован‐ ным на сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ, по уголов‐ ным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 171–173.2 УК РФ, освобождено от уголовной ответственности в связи с назначением иной ме‐ ры уголовно‐правового характера в виде судебного штрафа 868 лиц против одного лица, освобожденного от уголовной ответственности в связи с воз‐ мещением ущерба. Таким образом, бо́льшую эффективность демонстрируют общие альтернативы уголовному преследованию, предусматривающие усло‐ вия, выполнение которых влечет освобождение лица от уголовной ответст‐ венности. При этом освобождение от уголовной ответственности априори должно быть привлекательным для подозреваемого, обвиняемого, а значит, менее репрессивным, чем наказание, сформулированное в санкции статьи.
Из всего вышеизложенного напрашивается вывод о том, что поиск оптимальной системы альтернативных способов разрешения уголовно‐ правовых конфликтов необходимо продолжать. Думается, развитие системы альтернатив должно идти по пути совершенствования либо внедрения норм, содержащих универсальные, понятные и непротиворечивые основания и ус‐ ловия их применения. Системный, взвешенный, научно обоснованный под‐ ход при нормативном регулировании альтернативной реакции государства на преступления позволит закрепить систему эффективных инструментов для оценки целесообразности привлечения лиц, попавших в орбиту уголовного судопроизводства, к уголовной ответственности.
Список литературы К вопросу об эффективности института освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности
- Апостолова Н. Н. Целесообразность (дискреционность) в российском уголовном судопроизводстве: дис. ... д‐ра юрид. наук. Ростов н/Д., 2010.
- Арутюнян А. А. Медиация в уголовном процессе. М.: Инфотропик Медиа, 2013.
- Арямов А. А., Колыванцева М. А. Альтернативные формы решения уголовно‐правового конфликта: моногр. М.: Юрлитинформ, 2017.
- Гаврицкий А. В., Коблева М. М. Возможности медиации в уголовном процессе // Мировой судья. 2019. № 7. С. 26–29.
- Головко Л. В. Можно приветствовать наших судей, которые не хотят упрощения правосудия: [интервью] // Уголовный процесс. 2017. № 1. С. 38–45.
- Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание / пер. с англ.; общ. ред. Л. М. Карнозовой; коммент. Л. М. Карнозовой и С. А. Пашина. М.: Центр «Судебно‐правовая реформа», 2002.
- Кузьмина О. В. Альтернативные способы разрешения уголовно‐правовых конфликтов в российском праве // Lex Russica (Русский закон). 2015. № 1. С. 51–58.
- Магомедов Г. Б. Преступления небольшой и средней тяжести: освобождение от уголовной ответственности и наказания: моногр. М.: Юрлит-информ, 2016.
- Матвеева Я. М. Институт освобождения от уголовной ответственности в российском уголовном праве: модернизация и поиск альтернативных способов урегулирования уголовно‐правового конфликта: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб.2016.
- Попаденко Е. В. Применение примирительных процедур (медиации) в уголовном судопроизводстве. М.: Юрлитинформ, 2010.
- Сычёв П. Г. Производство по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: дифференциация по предмету или субъекту? // Закон. 2020. № 2. С. 132–140.