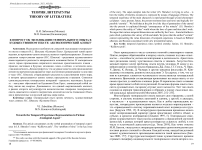К вопросу об экспликации темпорального опыта в художественном тексте: аксиологический аспект
Автор: Заботкина Вера Ивановна, Коннова Мария Николаевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
Исследуются особенности словесной экспликации темпорального опыта в повести И.С. Шмелева «Куликово Поле». Центральной темой произведения, по признанию самого писателя, является «проблема времени». В повести решается «сверх-сложная задача» (И.С. Шмелев) - средствами художественного языка передается реальность вневременного основания бытия. В темпоральном опыте героев произведения сопрягаются несколько хронотопических планов -прошлое, настоящее и будущее, мгновение «здесь и сейчас» и логически непостижимая вечность. Демонстрируется, что на уровне сюжета идея проникновения вечного во временное раскрывается через постепенное развертывание «следствия о чуде» (И.С. Шмелев), утверждающего реальность существования иного мира, в котором преодолеваются законы земных пространства и времени. Символом единства различных темпоральных измерений - прошлого, настоящего, будущего - выступает обретенный на Куликовом Поле Крест, знаменующий собой победу жизни над смертью. Доказывается, что единый «вертикальный» контекст, в рамках которого актуализируется аксиологическое измерение темпорального опыта, намечается в повести посредством аллюзий на тексты Священного Писания и прецедентные для русской картины мира имена.
Темпоральный опыт, время, вечность, художественный текст, символ, и.с. шмелев, куликово поле
Короткий адрес: https://sciup.org/149139231
IDR: 149139231 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_18
Текст научной статьи К вопросу об экспликации темпорального опыта в художественном тексте: аксиологический аспект
Опыт принадлежит к числу основных понятий гуманитарного знания. Платон, впервые обратившийся к вопросу опыта, понимал под ним «опытность» - способность учиться на повторениях в деятельности. Аристотель ввел разделение между чувственным опытом и знанием. Августин Блаженный перенес центр проблемы опыта внутрь человека. В новое и новейшее время к понятию опыта обращались Дж. Локк, Г.Г. Гегель, Ч. Пирс, У. Джемс, К. Ясперс, Д. Чалмерс и другие западные философы. И. Кант выдвинул положение, развитое впоследствии Э. Гуссерлем, о том, что одним из ключевых элементов человеческого опыта является темпоральный компонент. Временная составляющая пронизывает все виды опыта, от его самых простых до наиболее сложных форм. В первичном опыте сознания время представляет собой поток различий. К высшим формам опыта относится духовный опыт, где время уступает место вечности. Этот тип опыта основан на априори трансценденции и обращен к поиску смысловых связей идеальных предметностей [Молчанов 2007, 252-253].
Многообразие темпорального опыта находит свое отражение, с одной стороны, в системе языковых категорий и единиц, с другой, в дискурсе, в частности - в художественном тексте. Как и любое произведение искусства, литературное произведение является моделью мироощущения -это «приведенный в систему переживательный опыт индивида или группы» [Борухов 1992, 15]. В литературном произведении временное начало имеет всепроникающий характер: время представляет собой и объект, и субъект, и средство изображения [Лихачев 1997, 5]. Темпоральное измерение художественного текста всегда сопряжено с определенной системой ценностей, в рамках которой кристаллизируется сущность любой, в том числе и эстетической деятельности [ср. Тюпа 2019]. Как точно отметил М.М. Бахтин, «искусство и литература пронизаны хронотопическими ценностями разных степеней и объемов. Каждый мотив, каждый выделимый момент художественного произведения является такой ценностью» [Бахтин 2000, 177]. Структура многомерной ткани художественного времени отражает специфику индивидуального темпорального опыта автора и осо-

бенности ценностно-смысловой сферы культуры [см. об этом: Заботкина, Коннова 2019]. В ритме и последовательности мгновений, составляющих хронотоп художественного текста, выражается аксиологическое измерение авторской картины мира.
В настоящей статье особенности экспликации аксиологического измерения темпорального опыта исследуются на материале повести И.С. Шмелева «Куликово Поле». «Куликово Поле» было впервые напечатано как рассказ в газете «Возрождение» в январе-марте 1939 г. Произведение многократно перерабатывалось в 1942 и 1947 гг. И.С. Шмелев значительно расширил и углубил текст рассказа, который вырос до объема повести. Последние редакции произведения датируются 1947 г. В письме И.А. Ильину от б апреля И.С. Шмелев сообщил: «Куликово Поле (оно взяло последние силы!) завершил окончательно (5-й список)» [Ильин 20006, 115]. Через месяц, 16 мая, он написал: «В 10-й раз - ! - и окончательно! - продрал “Куликово Поле”» [Там же, 126]. Как самостоятельное издание повесть была опубликована в 1958 г. парижским издательством YMCA-Press.
В основе сюжетной линии произведения лежит реальное событие, «достоверный рассказ» о котором писатель услышал 20 марта 1937 г. от Павла Александровича Васильчикова: «В рассказе - Угодник (прей. Сергий), -..., приносит найденный на Куликовом Поле объездчиком старинный Крест в Троицкий Посад» [Ильин 2000 а, 407]. Прототипами главных героев повести, Георгия Андреевича Среднева и его дочери Ольги были искусствовед, автор фундаментального труда «Вопросы форм древнерусской живописи» граф Юрий Александрович Олсуфьев (1878-1938) и его племянница Екатерина Павловна Васильчикова (1906-1994). Рассказ П.А. Васильчикова, «очень сухой и схематичный» [Ильин 2000 а, 186], И.С. Шмелев наполнил художественным содержанием, и, внося «много из своего личного опыта» [Шмелев 2003, 440], создал повествование «о русском чуде», «простота и убедительность» которого, по свидетельству И.А. Ильина, «первоклассны» [Ильин 2000 Ь, 48].
Одна из центральных тем «Куликова Поля» - проблема времени. Работая над первой редакцией произведения, И.С. Шмелев в письме И.А. Ильину от 22 января 1939 г. отмечал, что хотел передать «как бы мгновенное ощущение, когда “времени не будет”». Создавая новый список в январе 1947 г, он делился с И.А. Ильиным своими размышлениями о «проблеме времени»: «Время там, где - материя. Для вне-материального нет и времени. А - все - всегда. Непостигаемо. Но - чувствуется... - по-лная полнота всем - всеполнота, насыщенность всем, вседовольность... и “вечный покой”, по-земному» [Ильин 2000 Ь, 17]. Цель произведения, его «сверхтрудная» задача [Ильин 2006 Ь, 264] - «показать, что для духа нет ограничений во времени и пространстве: все есть и всегда будет» [Шмелев 2003, 440-441].
Внимание И.С. Шмелева к «проблеме времени» неслучайно. Всю первую половину XX в. тема времени и его различных проявлений - длительности, развития, изменения - была в центре философской мысли, зарубежной и отечественной. В работах западных философов отчетливо прослеживалась тенденция элиминации надвременной основы жизни. А. Бергсон видел в мире только поток изменений, отрицая существование идеальной сверхвременной сферы мира. Э. Гуссерль считал темпорально-конститутивный поток абсолютной субъективностью, берущей начало в актуальном переживании момента «теперь» [Гайденко 2006, 14-17]. В концепции М. Хайдеггера связь времени с вечностью была окончательно устранена. Важнейшей характеристикой временности стала конечность, поскольку человеческое «вот-бытие», понимавшееся как «забота», было смертным. М. Хайдеггер исключил всякое вневременное бытие как начало времени, устранив из метафизики божественное и неизменное [Там же, 404-440]. В отличие от западных авторов, многие отечественные философы, и среди них С.Л. Франк, Н.О. Лосский, Н.А. Бердяев, указывали, что темпоральный опыт субъекта не мог быть ограничен настоящим. В частности, О. Сергий (Булгаков) писал, что присущее человеку «сознание временности, с его жгучестью и остротой, порождено чувством сверхвременности, не-временности жизни» и «родится лишь при взгляде во время из вечности» [Булгаков 2001, 312]. Н.А. Бердяев утверждал, «для христианского сознания вечное является во времени, вечное может быть во времени воплощено» [Бердяев 1990, 405].
Проследим, как проблема темпорального опыта, его временного и вневременного измерения преломляется в повести И.С. Шмелева «Куликово Поле».
Гносеологические координаты содержательного пространства текста намечаются начальным предложением: «...верю крепко, что страшное наше испытание кончится благодатно и - невдолге» [здесь и далее цитаты приводятся по: Шмелев 2001; курсив в цитатах наш - В.З., М.К.}. Глагол верить характеризует способ постижения бытия. В пространстве веры, определяемой как «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11: 1), преодолевается оппозиция настоящего, к которому отсылает бытийное именное сочетание «страшное наше испытание» и будущего, намечаемого сказуемым «кончится». Слово испытание, совмещающее идеи претерпевания-опыта и проверки-удостоверения, вводит образ Того, Кто испытывает, имплицируя мысль о конечной целесообразности, неслучайности происходящего. Широкая перспектива будущего, неограниченная временными рамками, вводится группой сказуемого - «кончится благодатно и - невдолге». Глагольная форма кончится, актуализирующая семантику предела, отсылает к той временной грани, которая отделяет настоящее (время испытания) и будущее (время исполнения обетований). Первопричина смены временных планов определяется наречием благодатно, эксплицирующим мысль о спасительной силе Божией. Расстояние между полюсами настоящего и будущего описывает наречие невдолге, в содержательной структуре которого сквозь узуальное значение «вскоре» просвечивает семантика «неопределенной определенности» [Видмарович 2015, 76].

Связь настоящего и будущего раскрывается через соотнесенность с абсолютной ценностью: «В надеждах на благодатную развязку укрепляет меня личный духовный опыт, хотя это опыт маловера: дай ощупать. И Христос снизошел к Фоме. Да, я - “Фома”, и не прикрываюсь. “Могий вместили...” - но большинство не может, и ему подается помощь. Я получил ее» [Шмелев 2001, 66]. Эти слова - аллюзия на Евангелие от Иоанна, повествующее о явлении Христа апостолу Фоме по Своем Воскресении (Ин. 20: 24-29). «Личный духовный опыт» повествователя помещается, тем самым, в надвременной контекст Священной Истории. Значение евангельской аллюзии эксплицируется через включение в текст повести фрагмента статьи И.А. Ильина «О путях России» (1927): «Нет народа с таким тяжким историческим бременем и с такою мощью духовною, как наш; не смеет никто судить временно павшего под крестом мученика; зато выстрадали себе дар - незримо возрождаться в зримом умирании, - да славится в нас Воскресение Христово'...» [Ильин 1934].
Живым, зримым знамением будущего возрождения становится описываемое в повести чудесное событие - явление Преподобного Сергия «в двух важнейших исторически местах» [Ильин 2000 а, 185] - на Куликовом Поле и у стен Троице-Сергиевой Лавры - 25 октября / 7 ноября 1925 г. «лесному объездчику» Василию Сухову и Средневым - «барину» Георгию Андреевичу и его дочери Ольге.
Время явления на Куликовом поле Преподобного Сергия лесному объездчику Василию Сухову определяется в рамках церковного календаря: «Случилось это в 25 году, по осени. <...> был исход октября, промозглая погода, дождь ледяной с крупой, захвативший еще в лесах. Сухов помнил, что было это в родительскую субботу, в Димитриевскую, в канун Димитрия Солунского. Потому помнил, что в тех местах эту Димитриевскую субботу особо почитают, как поминки, и дочь звала Сухова пирожка отведать, с кашей, - давно забыли» [Шмелев 2001, 74].
Точное время чудесной «встречи» обозначено хрононимом родительская суббота. Слово-символ суббота (др.-евр. sabbat «покой, отдохновение») актуализирует идею освященного времени. Его внутренняя форма соотносится с мыслью о Божественном покое, которым завершается семидневный недельный цикл сотворения вселенной (Быт. 2: 2), и с образом «смертного покоя, которым имел успокоиться во гробе Иисус Христос, после подвигов и страданий земной жизни Своей» [Дьяченко 2007, 683]. В сочетании с определением родительская слово суббота вводит многомерный мотив поминования-памяти, усиливаемый четырехкратным повтором корня помн- (помнил, поминки, поминовение). Хранящая «отчее начало», которое «есть связь настоящего и будущего с прошлым» [Бердяев 1969, 89], память соотносится с пространством истории, символом которой выступает Куликово Поле. Обстоятельство-метоним «в канун Димитрия Солунского» указывает на субботу, предшествующую празднику великомученика Димитрия Мироточивого - покровителя великого князя Дмитрия Донского, что соотносит историческую память с атемпоральной реаль- ностью Церкви. Завершает фрагмент развернутое толкование-пояснение: «Как известно, Димитриевская суббота установлена в поминовение убиенных на Куликовом Поле, и вообще усопших, и потому называется еще родительская». Обстоятельство цели в поминовение, вводящее образ церковного богослужения, в котором «уничтожаются грани времени», и где «все пребывает в настоящем, потому что в нем все в вечности», имплицирует мысль о «вечной памяти Божией» [Мечев 2001, 159, 163].
Преподобный Сергий предстает Василию Сухову в образе старца-странника: «По виду, из духовных: в сермяжной ряске, лыковый кузовок у локтя, прикрыт дерюжкой, шлычок суконный, седая бородка, окладиком, ликом суховат, росту хорошего, не согбен, походка легкая, посошком меряет привычно, смотрит с приятностью» [Шмелев 2001, 79].
Во внешнем облике Святого подчеркивается легкость, «сухость» как противоположность «плотяной» земной тяжести. Эта надмирность, не-отягощенность привязанностью к дольнему вещному миру фонетически оттеняется аллитерацией глухих [к], [с] и сонантов [л], [р], сообщающих звучащему тексту светлую прозрачность. Краткие динамичные синтагмы, смысловая емкость и выразительность которых оттеняется бессоюзием, характеризуются регрессивной последовательностью элементов - обратным порядком слов. Устойчивая инверсия, помещающая в акцентированную позицию определение («ликом суховат», «росту хорошего», «смотрит с приятностью»), восходит к стилю русских толковых иконописных подлинников, что подчеркивает истинность («подлинность») художественного изображения святого. Иконографическая точность описания сочетается с ласковой мягкостью народной речи, с характерными для нее диминутивами («в ряске», «кузовок», «дерюжка», «бородка»).
Перечисляя внешние, доступные видению черты облика Преподобного Сергия, рассказчик благоговейно умалчивает о чудесной природе бывшего ему откровения. Внутренняя тайна произошедшего как «знаменного явления» приоткрывается в слове лик, ситуативное значение которого («лицо, облик») уступает место специальному - «икона»: «Такой лик, священный... как на иконе пишется, в себе сокрытый» [Шмелев 2001, 79]. Узнавание святого через отождествление с иконографическим образом-образцом происходит на основе того признака, который определяется апофатически - метафорой глубины «в себе сокрытый». Слова «в себе сокрытый» открывают в явившемся чудесном старце того, кто непрестанно предстоит в умном молитвенном делании перед Лицом Превечного Бога.
Словесным выражением реальности горнего мира предстает в повести речь Преподобного Сергия. Слова приветствия, произносимые Преподобным, представляют собой начальный возглас церковной службы. Бесконечно широкие референциальные границы темпоральной синтагмы «всегда, ныне и присно и во веки веков» охватывают совокупное пространство прошлого, настоящего и будущего, преодолевая «времени текущее естество» [ср. Мечев 2001, 127]. Прославление имени Превечного Творца, Который «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13: 8), освящает все
наличествующее бытие, вводя в исторический хронотоп повествования вневременное измерение. Подобно тому, как узнавание святого происходит через соотнесение с иконописным образом, восприятие его речи происходит сквозь призму языка богослужения: «Старец говорил “священными словами, церковными, как Писание писано”» [Шмелев 2001, 80]. Речь Преподобного Сергия, прозрачно-лаконичная, отсылает к образу вечности самим своим морфологическим строем. В ней преобладают конструкции, отличающиеся атемпоральной обобщенностью - бытийные, напр., «Мой путь», инфинитивные, напр., «Вотчину свою проведать», неопределенно-личные, напр., «Знают на Посаде». В этой сверхвременности преодолевается раздробленность земного времени, выражением которой является речь Василия Сухова. Для нее характерны отрывистые, синтаксически неоднородные предложения, в которых смешиваются разновременные планы прошлого («допреждеу господ жил...»), настоящего («а нонче, -у кого и живу - не знаю») и потенциального будущего («м надругаться могут, и самого-то замотают»).
В центре «недолгой, но примечательной» беседы Преподобного Сергия с Василием Суховым - образ Креста, обретенного на Куликовом Поле. Мысль Василия Сухова обращена ко кресту как священному предмету, в детальном описании которого - «литой», «медный», «давнишний», «старинный» - сквозит восприятие его как знака «старинных времен», как отражения «самой-то истории». Ассоциации, имплицируемые подтекстом, связывают Крест, «наперсный», с «ясным рубцом» в месте, где «секануло ... татарской саблей», с павшим в Куликовской битве дружинником Дмитрия Донского, потомком которого был Георгий Андреевич Среднев.
В словах Преподобного Сергия открывается таинственно-вневременное значение Креста: «Милость дает Господь, Светлое Благовестие. Крест Господень - знамение Спасения» [Шмелев 2001,81]. Метафора дара («Милость дает Господь...») высвечивает онтологическую природу Креста как знака «присутствия Божия» [ср. Isaac Syr. Hom. II 11. 3-4, цит. по: Алфеев 2021]. Принимая у Василия Сухова Крест, чтобы отнести «благовестие» в Сергиев Посад Георгию Андреевичу Средневу, Преподобный Сергий выступает посредником между миром горним, Церковью небесной, и миром дольним, страдающим. Зримо свидетельствующий о неизменной действенности Евангелия - «Светлого Благовестия» о конечной победе добра над злом, Крест соединяет реальность настоящего времени с «будущим веком» [Там же].
Явление Преподобного Сергия в его «вотчине», Сергиевом Посаде, в доме Георгия Андреевича Среднева и его дочери Ольги, описывается в другой системе временных координат, отличной от традиционной для дореволюционной России: «Случилось это в конце прошлого октября, или -по новому стилю - в первых числах ноября. Оба помнили, что весь день лил холодный дождь, “с крупой”, - как и на Куликовом Поле! - но к вечеру прояснело и захолодало. Тот день оба хорошо помнили: как раз праздновалась 8-ая годовщина “Октября”, день был “насыщенный”» [Шмелев 2001, 111].
Уточняющее дополнение «по новому стилю», интонационно и графически выделенное, помещает описываемое в контекст «нового», начавшегося после революции, времени. Это «новое» время содержательно противопоставлено прежнему времени и прежнему миру. Двукратный повтор синтагмы «оба помнили» отсылают, как и слова «Сухов помнил...», к пространству памяти, но в центре этого пространства - иное событие: «,,.8-ая годовщина “Октября”».
Описание «насыщенного» дня выдержано в бравурно-декларативном стиле клишированных политико-агитационных текстов: «Загодя объявлялось плакатами и громкоговорителем наступление великой даты: “Всем, всем, всем!!!” Совсю-ду било в глаза настоятельное предложение “показать высший уровень революционного сознания, достойный Великого Октября”, всем решительно принять активное участие в массовой манифестации, с плакатами и знаменами, с оркестром и хором, по всему городу, и присутствовать массово на юбилейном собрании в “Доме Октября”, где произнесут речи товарищи-ораторы из Москвы» [Шмелев 2001, 111-112].
Повтор местоименной основы все («Всем, всем, всем», «совсюду», «всем решительно», «по всему городу») и слов с синонимичным корнем масс- («в массовой манифестации», «массово») в сочетании с параллелизмом побудительных конструкций с объектным инфинитивом («[предложение] показать, ... принять, ... присутствовать») и парными дополнениями («с плакатами и знаменами, с оркестром и хором») подчеркивает оглушающе-обезличивающий характер нового праздника.
Явление Преподобного Сергия в доме Георгия Андреевича Среднева происходит в пространстве иного - освященного - времени, звуковым символом которого становится бой курантов на колокольне закрытой Троице-Сергиевой Лавры: «Слышали оба, как в Лавре пробило - 7. Среднее читал газету. Оля прилегла на диване, жевала корочку. Вдруг - кто-то постучал в ставню, палочкой, - “три раза, раздельно, точно свой”. <...> Оля приоткрыла форточку... - постучали как раз в то самое окошко, где форточка! - и негромко спросила: “Кто там?..” <...> На оклик Оли кто-то ответил “приятным голосом” - так говорил и Сухов: - С Куликова Поля. <...> - Войдите-войдите, батюшка... - прошептала она, с поклоном. <...> Старец одет был бедно, в сермяжной ряске, и на руке лукошко» [Шмелев 2001, 112-114].
Хронотоп явления Преподобного Сергия в доме Средневых соотносится с прецедентными событиями русской истории: «Старец ... помолился на образа Рождества Богородицы и Спаса Нерукотворенного - по преданию из опочивальни Ивана Грозного, - и, “благословив все”, сказал: - Милость Господня вам, чада» [Там же, 114]. Первая из икон отсылает к Куликовской битве, произошедшей 8 сентября 1380 г. в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Второй образ - «Спаса Нерукотворенного» - напоминает об одноименной хоругви-знамени, вдохновлявшей войска Дмитрия Донского в решающие часы Куликовского сражения, и, одновременно, связывается с именем царя Иоанна IV, покорителя Казанского и Астраханского ханств - преемников Золотой Орды.
Для Ольги Георгиевны Средневой, которая «образа ... пишет» [Шмелев 2001, 82], «ключом» к постижению чуда - явления Святого - становится икона Пре-
подобного Сергия. Иконописный образ эксплицирует невысказанное и делает зримым то, что доступно внутреннему, сердечному видению: «Лампадок они не теплили, гарного масла не было; но она вспомнила, что получили сегодня подсолнечное масло, и она налила лампадку. И когда затеплила ее - “вот эту самую, голубенькую, в молочных глазках... теперь негасимая она...”, - озарило ее сияние и она увидала - Лик. Это был образ Преподобного Сергия» [Шмелев 2001, 116].
Категориальная семантика мгновенности, присущая глаголу озарить («... озарило ее сияние»), оттеняет внезапность чуда как явления вечности во времени. Атемпоральный хронотоп чуда тождественен моменту-грани, стоящему вне длительности: «...“было это, как миг... будто пропало время" <...> Я уже не осознавала себя, какой была... будто я стала другой, вне обычного-земного... будто - уже не я, а... душа моя» [Шмелев 2001, 117].
Вечность открывается Ольге Средневой как бесконечная, неуничтожимая жизнь, совершающаяся в «полной свободе от временных определений» [Лосский 1999, 11-12]. На словесном уровне уверенность в «имманентности прошлого и будущего в настоящем» [Лосский 2000, 49] эксплицируется посредством кратких параллельных синтагм - бытийных конструкций с максимально ослабленной временной отнесенностью: «Ей “все вдруг осветилось, как в откровении”. Ей открылось, что - все - живое, все - есть: “будто пропало время, не стало прошлого, а все - есть'.” Для нее стало явным, что покойная мама - с нею, и Шура, мичман, утопленный в море, в Гельсингфорсе, единственный брат у ней, - жив, и - с нею; и все, что было в ее жизни, и все, что она помнила из книг, из прошлого, далекого - “все родное наше”, - есть, и - с нею; и Куликово Поле, откуда явился Крест, -здесь, и - в ней! Не отсвет его в истории, а самая его живая сущность, живая явь. Она страшилась, что сейчас забудет это чудесное чувство, что это “дано на миг”... боялась шевельнуться, испугать мыслями... - но “все становилось ярче... светилось, жило...”» [Шмелев 2001, 119].
Слово-символ откровение - славянское имя последней книги Нового Завета - Откровения Иоанна Богослова (греч. алокаАлхрщ), символически повествующей о Страшном Суде и вхождении преображенной вселенной в жизнь вечную. Семантика неконтролируемости, спонтанности, присущая безличным утверждениям - метафорам «Ей ... осветилось», «Ей открылось», «Для нее стало явным», подчеркивает чудесный характер нового, внезапно обретенного героиней видения мира. Широкозначное утверждение все - есть, троекратно повторяемое, и синтаксически тождественная ему синтагма все - живое, уточняемая и усиливаемая пятикратным повтором синкретичной основы жив- /жизн- («в ее жизни», «Шура... - жив», «живая сущность, живая явь», «...жило»-) приоткрывают внутреннюю природу вечности как реальности неразрушимого бытия, над которым не властны смертность и тление временного мира. Троекратный концевой повтор обстоятельства с нею, указывающий на преодоление трагедии одиночества («... покойная мама - с нею <...> Шура... - жив, и с нею <...>, все родное наше, - есть, и с нею»), предваряет кульминационную синтагму -
«Куликово Поле, откуда явился Крест, - здесь, и - в ней». Утверждающие непреложную реальность вечного бытия, в котором преодолеваются границы земных пространства и времени, эти слова перекликаются с евангельским Откровением: «Се бо Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:20).
Рассказ Ольги Георгиевны завершается прямой цитатой Послания апостола Павла к Римлянам: «Она хотела мне объяснить, как она чувствовала тогда, но не могла объяснить словами. И прочла на память из ап. Павла к Римлянам: - ...и потому, живем ли, или умираем, всегда Господни. - Понимаете, все живет! У Господа ничто не умирает, а все - есть! Нет утрат... всегда, все живет» [Шмелев 2001, 119].
Категориальная семантика неограниченности, актуализируемая непредельными формами настоящего времени «все живет», «все - есть», и максимальная широта временного охвата наречия всегда передают невыразимое «чувство вечной жизни» [Лосский 2004, 320], утверждающейся в Том «Едином и Вечном» [Житие 2010, 76], Кто «не есть Бог мертвых, но живых» (Лк. 20: 38).
Тождеством двух противоположных по прецедентной природе дней, объединенных чудом явления Преподобного Сергия преодолевается неверие Георгия Андреевича Среднева: «Но это... 7 ноября'... - крикнул он в раздражении не то в досаде и растерянно посмотрел вокруг. - Да!.. 25 октября, по-церковному'... В родительскую субботу'... В церкви были тогда, 7 ноября... поминала... ты ходил по Посаду!.. - выкрикивала, задыхаясь, Оля. - В ту же субботу, как там, на Куликовом Поле!.. В тот же вечер... больше четырехсот верст отсюда!.. В тот же вечер'. ... Среднев смотрел, бледный, оглушенный, губы его сводило, лицо перекосилось, будто он вот заплачет. Он едва выговорил: - В тот же... вечер...» [Шмелев 2001, 129].
Тождество двух суббот - субботы 7 ноября и святой субботы - воспринимается героями повести как «великое знамение обетования»: «Мелькавшие в мыслях две субботы - слились теперь в одну, так поразительно совпали, такие разные! Два празднования: там - и здесь, Неба - и земли. Света - и тьмы. И как наглядно показано. <...> Особенно поражало нас в нами воссозданном: “суббота 7 ноября”, сомкнувшаяся со “святой субботой”, ею закрытая. Оля видела в этом “великое знамение обетования”, и мы принимали это, как и она» [Шмелев 2001, 130, 132].
Тройственная антитеза «там - и здесь, Неба - и земли. Света - и тьмы», противопоставляющая аксиологические полюса «ценность - антиценность», подчеркивает контраст горнего и дольнего, временного и вечного. Хрононим 7 ноября выступает метонимическим символом трагической действительности послереволюционной России. Его контекстуальный антоним, имя святая суббота, вводит образ иной, освященной, реальности, которая онтологически утверждена в Боге [Осипов 1995, 18]. Синонимические метафоры тождества-замещения «сомкнувшаяся..., ею закрытая», оттеняя хронологическую кореферентность двух суббот, актуализируют идею победы-преодоления. Слово-символ знамение име- нует явление, чья чудесная «инаковость», «выделенность» из естественного течения событий делает его знаком бытия иного мира. В ключевом сочетании «великое знамение обетования» пространство настоящего, освященное «явлением Святого», размыкается в будущее, в котором должно совершится конечное торжество правды над ложью, добра над злом.
В повествовании Сергея Николаевича, свидетеля чудесного события, «живая сущность» вечности раскрывается через оксюморон «будущего не будет»: «А что пережил тогда в миг неизмеримый... - выразить я бессилен. Как передать душевное состояние, когда коснулось сознания моего, что времени не стало... века сомкнулись... будущего не будет, а все -ныне, - и это меня не удивляет, это в меня вместилось?!. Я принял это как самую живую сущность» [Шмелев 2001, 86].
Сочетание миг неизмеримый указывает здесь на находящееся вне длительности и вне времени кратчайшее мгновение-грань, во внезапности которого происходит «прорыв в вечность» [Лосский 2004, 406]. Результативная семантика формы «времени не стало» соотносит явление вечности с моментом «здесь и сейчас», помещая события в «настоящее без измерения» [Там же]. Парадоксальность тавтологической антиномии « буду щего не буд ет», отсылающей к стиху Апокалипсиса «времени не будет» (Откр 10: 6), отражает непостижимую реальность «упразднения» времени как потока непрестанно сменяющих друг друга мгновений прошлого, настоящего и будущего. В кульминационной синтагме «все - ныне» определительное местоимение все - именует совокупность видимого и невидимого мира, который, будучи вызван из небытия творящим «Да будет!» (Быт. 1), в небытие возвратиться не может. Наречие ныне указывает на пространство «необъективированного вечно настоящего времени» [Бердяев 1935, 31-32], в котором происходит «победа вечности над временем» [Там же, 31].
Явление Преподобного Сергия имеет открытое временное завершение. Святой приходит «с Куликова Поля» в субботний вечер, в канун воскресного дня, о чем напоминают слова «Завтра день недельный». Преподобный пребывает в доме Георгия Андреевича и Ольги Средневых «до утра» воскресенья. Воскресенье, являющее собой «день первой и последней грани» [Лосский 2004, 407], знаменует собой полноту времен, напоминая о символическом восьмом дне, когда по окончании земной истории весь мир приобщится к Божественной вечности. В прощальном благословении Преподобного - «Завтра отыду рано. Пребудьте с Господом» - план настоящего размыкается в бесконечное пространство грядущей вечности.
Проведенное исследование позволяет заключить, что центральная для повести И.С. Шмелева «Куликово Поле» «проблема времени» решается автором в ценностном ключе: темпоральный опыт героев не замыкается на «центрированности» в настоящем, но сочетает в себе хронотопические планы прошлого и будущего, мгновения «здесь и сейчас» и интуитивно познаваемой вечности.
Список литературы К вопросу об экспликации темпорального опыта в художественном тексте: аксиологический аспект
- Алфеев Иларион, митрополит. Крест // Православная энциклопедия. URL: www.pravenc.ru/text/2459015.html (дата обращения: 3.02.2020).
- Бахтин М.М. Эпос и роман. СПб.: Азбука, 2000. 304 с.
- Бердяев Н.А. Время и вечность // На переломе. Философские дискуссии 20-х годов: философия и мировоззрение. М.: Политиздат, 1990. С. 402-410.
- Бердяев Н.А. Вечность и время // Вестник Русского студенческого христианского движения. 1935. № 3. С. 27-33.
- Бердяев Н.А. Смысл истории: опыт философии человеческой судьбы. Изд. 2-е. Paris: YMCA Press, 1969. 273 с.
- Борухов Б.Л. Введение в мотивирующую поэтику // Филологическая герменевтика и общая стилистика. Тверь: Тверской государственный университет, 1992. С. 5-28.
- Булгаков С.Н. Свет Невечерний. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001. 672 с.
- Видмарович Н.П. Эонотопос в рассказе И.С. Шмелева «Куликово Поле» // Вестник Новгородского государственного университета. 2015. № 84. С. 76-79.
- Гайденко П.П. Время. Длительность. Вечность. М.: Прогресс-Традиция, 2006. 464 с.
- Дьяченко Григорий, свящ. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2007. 368 с.
- Житие священноисповедника Романа (Медведя) 1874-1937 / сост. игумен Дамаскин (Орловский). Тверь: Булат, 2010. 120 с.
- Заботкина В.И., Коннова М.Н. Оппозиция «временное - вечное» в стихотворении Б.Л. Пастернака «Бальзак» (к вопросу об угрозе деаксиологизации культуры) // Новый филологический вестник. 2019. № 4 (51). С. 255-268.
- Ильин И.А. О России: Три речи, 1926-1933. София, 1934. URL: https:// www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/il3/02.php (дата обращения: 15.05.2020).
- (а) Ильин И.А. Собрание сочинений. Переписка двух Иванов (1935-1946). М.: Русская книга, 2000. 573 с.
- (b) Ильин И.А. Собрание сочинений. Переписка двух Иванов (1947-1950). М.: Русская книга, 2000. 527 с.
- Лихачев Д.С. Историческая поэтика русской литературы. СПб.: Алетейя, 1997. 566 с.
- Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Киев: Издательство им. свт. Льва, папы Римского, 2004. 543 с.
- Лосский Н.О. Типы мировоззрений. Введение в метафизику // Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М.: Терра-Книжный клуб, 1999. С. 4-134.
- Лосский Н.О. Ценность и Бог. Харьков; М.: Фолио; АСТ, 2000. 864 с.
- Мечев Сергий, священномученик. Тайны богослужения. Духовные беседы. Письма из ссылки. М.: Русский Хронографъ, 2001. 383 с.
- Молчанов В.И. Исследования по феноменологии сознания. М.: Территория будущего, 2007. 448 с.
- Осипов А.И. Святые как знак исполнения Божия обетования человеку // Русское возрождение. 1995. № 62. С. 9-32.
- Тюпа В.И. «Теория литературы Два» как гуманитарная угроза // Вопросы литературы. 2019. № 1. С. 52-66.
- Шмелев И.А. Куликово Поле // Шмелев И.А. Душа Родины: избранная проза. М.: Паломникъ, 2001. С. 66-134.
- Шмелев И.С. Роман в письмах: в 2 т. М.: Российская политическая энциклопедия, 2003. Т. 1 (1939-1942). 760 с.