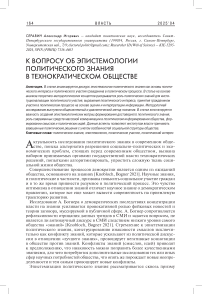К вопросу об эпистемологии политического знания в технократическом обществе
Бесплатный доступ
В статье анализируется дискурс эпистемологии политического знания как основы политического интереса и политического участия гражданина в политическом процессе. В статье на основе анализа теоретико-методологических концептов раскрывается роль политических знаний для институционализации политического участия, выражения политического интереса, принятия гражданином участия в политическом процессе на основе оценки и интерпретации информации. Методологией исследования выступили общесистемный и диалектический метод познания. В статье констатируется важность создания эпистемологических матриц формирования достоверного политического знания, роль современных средств массовой коммуникации в политическом информировании общества, формировании смыслов и политических идей. Данные аспекты позволяют институтам власти принимать взвешенные политические решения с учетом особенностей социальной структуры общества.
Политическое знание, эпистемология, политическое участие, политический интерес
Короткий адрес: https://sciup.org/170211067
IDR: 170211067
Текст научной статьи К вопросу об эпистемологии политического знания в технократическом обществе
А ктуальность исследования политического знания в современном обществе, поиска альтернатив разрешения социально-политических и экономических проблем, стоящих перед современным обществом, вызвана набором принимаемых органами государственной власти технократических решений, попытками алгоритмизировать, упростить сложную ткань социальной жизни общества.
Совершенствование процессов демократии является одним из ожиданий общества, основанного на знаниях [Knobloch, Bogner 2021]. Научные знания, и политические в частности, призваны повысить социальное участие граждан и в то же время привнести разумное в политический процесс. Это чувство оптимизма в отношении знаний отличает научное знание о демократическом правлении, которое все еще может вывести современность на приемлемую траекторию развития.
Исследование А. Богнера о демократических последствиях концентрации власти на знании усиливается провокативной ролью фейковых новостей и теории заговора, муссируемой в публичной сфере. А. Богнер сопротивляется рефлексивности отрицания данных трендов в СМИ и задается вопросом, не является ли антинаучный дискурс в СМИ следствием низкого уровня самого общества «знаний» [Knobloch, Bogner 2021]. Стремление к эпистемизации политического знания, конструированию инаковости смыслов исключительно как конфликту знаний, которые ускользают из политической дискуссии в отношении «лучшего знания», провоцирует негативные коннотации в обществе против знаний. Конфликты знаний (смыслов, идей) приводят к предположению, что инаковость можно поправить более качественными знаниями, для чего потребуются дополнительные исследования тех или иных сфер научных потребностей общества, что опять же порождает новые неопределенности и тем самым провоцирует новые конфликты.
Эпистемизация политического знания рассматривается сквозь призму демократической теории, поскольку набирают силу процессы эрозии демократии, пренебрежение демократическими вызовами, стоящими перед обществом знаний. Основное внимание уделяется уже не критике властных отношений, а отношению к знаниям, что отмечается в исследованиях «эпи-стократии» Дж. Бреннана [Brennan 2017] или демократической экспертокра-тии Г. Виллке. В современных обществах граждане в значительной степени зависят от знаний других людей. Во многих сферах общество полагается на информацию, знания и опыт других.
Граждане должны иметь возможность получить доступ к знаниям, необходимым для принятия решений, и для этого необходимы соответствующие сети эпистемических институтов и практик, помогающих гражданам в этом стремлении. Для этого специалисты используют форму «рынка идей», в частности для описания текущего дискурса о свободе слова. Рыночная парадигма «рынок всегда прав» распространилась на многие сферы общества, в т.ч. и на сферу идей, когда «побеждает наилучший аргумент». Однако данная перспектива не учитывает сложности демократических дискуссий, а также потенциал цифровизации СМИ и социальных сетей [Herzog 2023]. Обществу необходима эпистемическая инфраструктура, которая предоставляет гражданам возможность доступа к эмпирически выверенным и теоретически подтвержденным знаниям, что позволяет вносить свой вклад в политические дискуссии и разработку политических решений. Например, как общество может определить правдивость типов высказываний, которые претендуют на объективность, но на самом деле движимы коммерческими интересами? Для этого необходимо повышать осведомленность и внедрять этические правила, соответствующие достоверности информации.
П. Ганн, раскрывая позицию Дж. Фридмана, констатирует, что в США и Европе утверждения об утилитаристском знании являются основой публичной политики [Gunn 2020]. Если понимать технократию как попытку государства решить, смягчить или предотвратить социальные и экономические проблемы в обществе, используя в целом утилитарные критерии того, что является социально и экономически проблемным, то мы придем к признанию того, что обычные граждане могут участвовать в определении данных проблем и направлений их разрешения и что они могут быть правы [Friedman 2019a]. Фридман переопределяет технократию как политику, посвященную решению, смягчению и предотвращению утилитарных социальных и экономических проблем, независимо от того, предпринимаются ли эти усилия обычными гражданами или эпистократами («гражданами-технократами») [Gunn 2020].
Эпистократ, в нашем понимании, – это сторонник концепции эпистокра-тии, которая предполагает распределение политической власти на основании критериев знания или политической компетентности. По мнению эпи-стократов, обращение к мнению большинства не всегда является хорошей идеей, т.к. оно может быть иррациональным и невежественным, а это ведет к плохим политическим и управленческим решениям. Особое внимание стоит уделить мнению людей, обладающих знаниями и добродетелями [Масланов 2023: 234].
Например, К. Эллиот отмечает, что эпистократия могла бы передавать гражданам с образованием дополнительные голоса, исключать граждан из участия на выборах до тех пор, пока они не пройдут экзамен на квалификацию избирателей, взвешивать голоса согласно уровню политической грамотности каждого избирателя [Elliott 2020:102].
Дж. Фридман, адаптируя терминологию психологии, вводит понятие «наивного технократического реализма». «Наивный реалист» считает, что отчасти некоторые аспекты реальности самоочевидны, так что идеи о том, например, как решить социальную или экономическую проблему, на самом деле не являются «идеями», а скорее теоретически непосредственными и точными отражениями действительности или интуициями «прозрачной реальности» [Булавинова 2021].
Фридман выделяет четыре типа технократического знания: знание (а) масштаба социальных и экономических проблем и (б) их причин, знание (в) эффективности их решений и (г) стоимости решений [Friedman 2019b]. Он указывает на то, что в дебатах технократического знания утверждается, что технократическая политика основывается на контринтуитивных, непреднамеренных последствиях. По сути, все человеческие действия подвержены ошибкам, несовершенны, так что могут быть предметом разногласий. Этот трюизм обосновывает необходимость политической эпистемологии в целом в противовес непогрешимости знаний наивных реалистов [Gunn 2020].
Фридман отмечает позицию У. Липпмана как интерпретативиста, согласно которому наши представления об обществе и институтах власти являются «стереотипами», основанными на частичных и, возможно, нерепрезентативных массовых выборках [Gunn 2020]. Он считал, что журналисты и социологи способны дать рядовым гражданам востребованные технократические знания, однако без объяснения того, что могло бы гарантировать действие механизма интерпретации, который отсеивает «ненужное» в «информационных выборках» журналистов и социологов и точно отражает социальную структуру общества, социальные и экономические проблемы которого они пытаются решить [Евстигнеев 2021].
Проблема интерпретации затрагивает не только тех, кого изучал Липпман, а именно субъектов технократического принятия решений – граждан-технократов и эпистократов, но и объекты их решений, агентов, поведение которых они стремятся сформировать посредством вмешательства в политическое действие. Интерпретации вытекают из организации убеждений граждан в структурированные сети. Узлы этих сетей в культурно разнообразных современных обществах неоднородны для разных групп граждан. Таким образом, интерпретации, направляющие сознательные действия тех, кого технократ будет предсказывать и контролировать, могут различаться среди населения. В условиях социальных сетей интерпретация не определяется, как считает Фридман, случайными процессами формирования индивидуальных убеждений и идейных основ межличностного общения, а строго формируется владельцами социальных платформ и сетей [Gunn 2020].
Субъект может приписывать объектам определенную интерпретацию социальной среды, но интерпретации социальной среды объектами могут отличаться от интерпретаций субъекта (технократа). Обе эти формы идейной неоднородности – внутри социума и между членами социума и технократом – могут привести к тому, что технократ будет совершать прогностические ошибки, что, в свою очередь, приведет к непредвиденным последствиям политических решений.
Однако следует отметить, что не существует единый человеческий генератор идей. Средства массовой информации и образовательные системы являются яркими представителями различных генераторов идей и смыслов.
Дж. Фридман замечает, что политологи и социологи склонны выдвигать претензии на предиктивное знание индивидуального поведения по различ- ным объективным переменным, таким как мотивы, интересы, стимулы, рассматриваемые в т.ч. и неоклассическими экономистами. Так, психологические механизмы рассматриваются как причины поведенческой экономики, используется широкий спектр других причин – от тривиальных до грандиозных, для которых позитивисты-эмпирики ищут корреляцию наблюдений или доказательства эксперимента.
Представители экономических теорий настаивают на том, что «стимулы имеют значение», имея в виду, что люди механически и, следовательно, предсказуемо реагируют на объективные стимулы без их интерпретации [Bennett, Friedman 2008: 195]. Это позволяет экономисту-технократу предположить, что он может манипулировать людьми, чтобы решать социальные и экономические проблемы, изменяя объективные стимулы, с которыми люди сталкиваются.
Представители поведенческой экономики, такие как Д. Канеман и А. Тверски, развивают данный тезис, добавляя постоянно растущий список «иррациональных» (психологических) исключений к правилу «рационального» (основанного на стимулах) поведения [Heukelom 2014]. Фридман утверждает, что важным препятствием для технократических моделей мышления является тенденция к догматизму среди экспертов. Здесь он снова ссылается на позицию У. Липпмана, который считал, что интерпретации придают окружающей среде понятность и таким образом «поощряется предвзятость» [Gunn 2020]. Интерпретация оценивает входящую информацию с предвзятостью, подтверждая важность того, в каком контексте существует интерпретация. Только эта информация понятна, правдоподобна и интересна; избыток другой информации отсеивается как дезинформация, или нерелевантная информация.
Это порождает тенденцию к интерпретационному догматизму среди тех, кто усвоил большой объем информации. Эту тенденцию Фридман называет «спиралью убеждения». Фридман утверждает, что мотивированное рассуждение более интенсивно и широко распространено среди хорошо информированных граждан, чем среди мало информированных групп и индивидов [Friedman 2019b].
Дьюи признает, что социально-научное знание надежно, и это относит его к группе сторонников эпистократии. Он также констатирует, что решение социальных проблем является первостепенной целью политики. Если цель состоит в решении социальных проблем и если политологи знают, как это сделать больше, чем обычные граждане, почему последние должны участвовать в разработке политических решений? Даже если граждане участвуют в выявлении и идентификации общественных проблем, т.е. в определении целей, которых необходимо достичь, «фундаментальная дилемма демократической технократии», по мнению Фридмана, заключается в том, что технократический подход не является очевидным. Если допустим, что политологи скорее получат доступ к данным, чем кто-либо другой, то у граждан нет легитимной роли в определении политических средств для достижения этих целей.
По мнению ряда авторов, анализ чьих мнений воспроизводит экономист Э. Даунс [Downs 1957], вполне ожидаемо, что общественность будет политически невежественной, поскольку у каждого отдельного избирателя есть лишь мизерный шанс повлиять на исход массовых выборов. Избиратели, зная эти шансы, правильно оценивают, что не стоит тратить время на «изучение» политики и действий правительства, поскольку крайне маловероятно, что их голоса повлияют на государственную политику или поведение правительства. Это классическая история того, что «стимулы имеют значение», когда агентам приписывается точное субъективное знание объективных стимулов, с которыми они сталкиваются.
По мнению Дж. Фридмана, реальный вопрос заключается не в том, почему граждане голосуют, несмотря на малые шансы, а в том, почему они считают себя способными выносить здравые политические суждения на той слабой информационной основе, которую, как показывают опросы, они имеют. Фридман на основе обобщений результатов опросов и фокус-групп предполагает, что в США в последние десятилетия избиратели часто были склонны относиться к решениям социальных и экономических проблем как к простым, не требующим слишком больших знаний или даже слишком больших размышлений. В то же время избиратели думают, что решение социальных и экономических проблем требует эффективного и понятного политического лидера, которого достаточно, чтобы преодолеть сопротивление особых интересов делать то, что «очевидно» необходимо сделать.
Соответственно, по мнению Фридмана, граждане рассматривают политику как конкурентное соревнование, в котором «сильные» политики с добрыми намерениями соревнуются либо со «слабыми», но хорошо информированными политиками, либо со «злыми» – теми, чьи намерения обусловлены закулисными интригами истеблишмента. Такие избиратели, предполагает Дж. Фридман, будут склонны предполагать, что все, что им нужно знать о политике, это то, какие политики сильны и имеют благие намерения. В этом анализе технократический реализм обретает форму реального эмпирического явления. Истинная проблема для политического эпистемолога-технократа заключается не в том факте, что избиратели могут не знать часто тривиальную политическую информацию, проверяемую исследователями и политологами, а в том, что они не будут знать самой возможности того, что государственная политика может дать обратный эффект.
В обзорном эссе Каплана о рациональном избирателе утверждается, что мнения избирателей «рационально иррациональны», избиратели ничего не говорят о своем конкретном мнении, которого они придерживаются [Caplan 2007]. Теория «рациональной иррациональности» позволяет избирателям верить во все, что им вздумается, но она не может сказать политологам, почему избиратели выдвигают конкретные идеи, за исключением того, что они говорят трюизмами (за все хорошее против всего плохого). Технократический подход к политическому знанию Фридмана заключается в том, чтобы спросить, во что было бы рационально верить избирателям, если бы они были воспитаны в подлинной демократической культуре? В культуре, в которой бесконечно повторяется, что индивидуальные голоса избирателей имеют значение и, более того, что это хорошо, гражданин мог бы сделать вывод, что мнение каждого избирателя ценно независимо от того, насколько хорошо информирован избиратель.
На этой основе Фридман выстраивает идеальный тип «технократического мировоззрения», которое соответствует реальному общественному мнению и реальному поведению избирателей, создавая при этом убедительную картину внутренней жизни гражданина-технократа. Одной из ключевых особенностей этой картины является приравнивание избирателями хороших намерений к хорошим результатам политики и плохих намерений – к созданию или сохранению социальных и экономических проблем общества.
Контрастным мнением может быть позиция защиты осведомленности избирателей, выдвинутая демократическими теоретиками, такими как Ю. Хабермас, согласно которому недостаточно информированные граждане могут обойтись знаниями доверенных лиц, такими как экспертное мнение, позиция лидера группы и пр. Логично, что мнения доверенных лиц работают только в том случае, если избиратели достаточно осведомлены, чтобы иметь возможность оценить их точность [Habermas 2006]. Кажется более вероятным, что избиратели, по мнению Фридмана, изначально не будут заинтересованы в сознательном выборе доверенных лиц, поскольку не будут думать, что им нужно знать что-то большее, чем намерения кандидатов, партий, законопроектов, а это соответствует позиции Ю. Хабермаса, который приписывает избирателям осознание их потребности в интуитивном знании.
Обмен знаниями и информацией в рамках доверия социальным отношениям является основой эпистемологии знания. Социальное измерение знания является центральным фактором при его концептуализации. Приобретение коллективных знаний требует наличия определенных социальных норм и их усвоения индивидами. Когда индивиды взаимодействуют в процессах обмена знаниями, они нацелены на сотрудничество, информант может задать уточняющий вопрос, чтобы убедиться, что информация была правильно воспринята человеком, который ее запросил, или расширить информационное пространство, чтобы убедиться в том, что цель обмена знаниями достигнута. Часто существуют социальные нормы или сигналы, которые дают понять, чего ожидать в коммуникации. Возможно, человек (информант) довольно хорошо улавливает такие сигналы, особенно если для него важно знать, может ли он полагаться на чьи-то утверждения.
По мере приращения политических знаний и понимания значения мнения возрастает политический интерес индивида. Люди с большим объемом политических знаний лучше понимают процесс принятия политических решений и могут связать его со своими собственными интересами и ценностями, что мотивирует и формирует политический интерес. В результате граждане с высоким политическим интересом, как правило, демонстрируют более высокий уровень политического участия, поскольку они желают более активно участвовать в политическом процессе. Социальная деятельность в этом взаимодействии выступает источником информации для политических знаний, что, в свою очередь, приводит к росту политического интереса и впоследствии – к более высокому уровню политического участия.
Политическое знание может выступать пассивной формой, возникающей в результате взаимодействий гражданина с окружающей его средой. Сюда входят знания о политиках и избирательных кампаниях, позициях политических партий и знания о выборах. Участие в политической жизни проявляется как интерес к политике, ценность, которую избиратели придают результатам выборов, а также степень их энтузиазма и намерений активно участвовать. Важным аспектом политического взаимодействия, который необходимо более углубленно анализировать, являются политические знания.
Когда объем политических знаний увеличивается, политическая активность также может возрасти [Stevens 2012]. Индивид постоянно вовлечен в бесконечный объем информации, которая потенциально может стать частью его знаний. Отдельные фрагменты информации оказывают влияние на индивида, в то время как важные информационные посылы могут остаться на периферии его внимания. Это происходит на уровне чувственного восприятия: человеческий мозг обладает удивительной способностью сосредоточи- ваться на том, что он обрабатывает как релевантное, в то время как остальная информация исчезает.
Притязания на знание или истину часто гораздо более сложны, чем хотелось бы, они являются результатом социальных процессов предоставления и обоснования доказательств информации, которые сильно варьируются и чьи особенности не всегда работают должным образом. Претензии на истину или знание сами по себе не могут оправдать политические решения – для этого их всегда нужно сочетать с оценочными суждениями, и часто необходимо синтезировать различные формы знания.