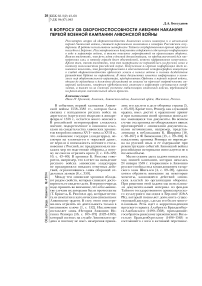К вопросу об обороноспособности Ливонии накануне первой военной кампании Ливонской войны
Автор: Бессуднов Даниил Александрович
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: История и современность
Статья в выпуске: 4 (33), 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрен вопрос об обороноспособности Ливонских земель накануне и в начальный период Ливонской войны, ставшей переломным моментом в истории Российского государства. В работе использованы материалы Тайного государственного архива прусского наследия в Берлине. Рассматриваемые документы содержат в себе ценную информацию о ходе и характере войны, а также описание мероприятий по организации обороны. Важно отметить, что речь идет о деловой документации, не предназначенной для посторонних глаз, а потому гораздо более объективной, нежели нарративные источники. Кроме того, стоит отметить, что эти материалы не переводились на русский язык и поэтому малоизвестны российской науке. Полученная из архива информация дает основания полагать, что распространенная в отечественной историографии концепция о слабой обороноспособности орденских земель в начале войны и полном бездействии руководства Ордена не оправданна. В этих документах имеется информация о комплексе мер оборонительного характера, предпринятых Орденом в первый период войны, однако не приведших к должному результату во многом по причине скоротечности январской кампании, неверного представления ливонцев о характере случившегося конфликта, а также из-за сложной системы мобилизации ливонского войска, требовавшей на реализацию значительный объем времени.
Иван iv грозный, ливония, ливонская война, ливонский орден, московия, Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/14031843
IDR: 14031843 | УДК: 63.3(2)
Текст научной статьи К вопросу об обороноспособности Ливонии накануне первой военной кампании Ливонской войны
Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2014
В событиях первой кампания Ливонской войны 1558–1583 гг., которая была связана с нападением русских войск на дерптскую (тартускую) епархию в январе-феврале 1558 г., остается много неясного. В российской историографии сложилось мнение, подкрепленное в основном ссылками на свидетельства ливонских хронистов второй половины XVI – начала XVII в., что ливонские государи (ландсгерры), несмотря на ультиматум о «юрьевой дани», не верили в возможность военного столкновения с Россией, не предпринимали никаких мер по подготовке обороны, а потому не смогли отразить врага [7, с. 118–129; 10, с. 43–80]. В хронике Б. Рюссова говорится, например, что в ответ на нападение русского войска ливонские ландсгерры не предприняли никаких ответных действий, ограничившись лишь обороной отдельных замков [8, с. 359].
Между тем ливонские хроники обладают рядом свойств, которые снижают достоверность ее свидетельств. В первую очередь надо принять во внимание, что в большинстве случаев их авторами были протестанты (Т. Бракель, Б. Рюссов и др.), которые не питали симпатии к католическим епископам и Ливонскому ордену. В силу этого они стремились отразить их деятельность только в негативном ключе [1, c. 152]. Исключение составляет лишь «История Ливонии» Иоганна Реннера [16, c. 163–175] (1525–1583), который состоял на службе Ливонского ордена и поэтому не имел намерения прини- зить его заслуги в деле обороны страны [5, с. 85–92]. Кроме того, Реннер, как служащий ордена, имел доступ к орденскому архиву и при написании своей хроники использовал имеющиеся там документы. Во всяком случае эта хроника не обнаруживает явных противоречий с ливонскими документальными источниками, например, представленными в публикациях К. Ширрена [18, c. 98–167] и Ф. Бинеманна [13, c. 29–104]. К сожалению, хроника Реннера не переведена на русский язык и ее содержание при реконструкции событий Ливонской войны российскими историками используется не в полном объеме.
Мы не ставим здесь задачи описать весь ход зимней кампании, которая началась 24 января 1558 г. вторжением в Ливонию русского войска под командованием татарского хана Шигалея [4, c. 89–93], однако хотим обратить внимание на некоторые моменты, касающиеся действий ливонских властей по организации обороны. При решении этой задачи мы использовали документальный материал из фондов Тайного государственного архива прусского культурного наследия в Берлине (GStA PK), который позволяет дополнить существующий дискурс, сделав его более многоплановым. Речь идет о корреспонденции прусского герцога Альбрехта Бранденбур-га-Ансбахского (1490–1568), приходившегося братом рижскому архиепископу Вильгельму Бранденбургскому (1498–1563) и состоявшего с ним в активной переписке.
По этой причине комплекс архива герцогских посланий (Herzog-Briefenarchiv, HBA) содержит богатый материал, касающийся внутриполитической обстановки в Ливонии накануне и в начальный период Ливонской войны. Важно также отметить, что речь идет о деловой документации, не предназначенной для посторонних глаз, а потому более объективной, нежели нарративные источники. Кроме того, стоит отметить, что до этого момента данные документы не переводились на русский язык и поэтому малоизвестны российской науке.
К сожалению, в комплексе HBA мало свидетельств развития русско-ливонских отношений в 1557 г. – в период, когда истекал срок ультиматума, объявленного Иваном IV Дерптскому епископству в связи с выплатой задолженности по «юрьевой дани» [12, c. 376–399]. Этот факт может быть свидетельством отсутствия в Ливонии особой обеспокоенности по данному поводу. К такому же выводу подводит роспуск ливонцами войсковых подразделений, навербованных в связи с «войной коадьюторов» [14, № 2110]. Справедливо будет отметить, что заключенный в 1557 г. Позвольский договор, кроме прочего, предусматривал создание оборонительного союза между Польско-Литовским государством и Ливонией на случай нападения России. Однако он вступал в силу только по истечении сроков соглашений с русской стороной – соответственно через пять лет для Польско-Литовского государства и через двенадцать лет для Ливонии, поскольку, как сказано в договоре, «в настоящее время существующие договоренности с Московским государством не допускают против них никаких враждебных действий» [14, № 2070–2084]. Если бы нападение русских ожидалось в ближайшее время, оговорка насчет вступления в силу соглашения о военном союзе была бы включена. Вместе с тем из других документальных собраний известно, что ливонский магистр Вильгельм фон Фюрстенберг (1500–1568) вербовал солдат в Германии и сам находился близ русско-ливонской границы [17], что может быть связано с укреплением обороны ливонских земель от возможного нападения извне. Однако в то же время он надеялся на мирное урегулирование вопроса о «юрьевой дани», поскольку практически в то же самое время (25 октября 1557 г.) в Москву было отправлено посольство с целью уладить возникшие противоречия [2, c. 540–543]. События, связанные с этим посольством, лучше всего освещает дневник его секретаря Томаса Хёрнера [3, c. 153–171; 11, c. 6–19], сведения которого, в том числе и о грубом обращении с ливонскими послами в Москве, полностью подтверждаются рядом документов HBA [14, № 2185]. Это посольство не справилось со своей миссией и потерпело фиаско. Видимо, именно этим следует объяснять тот факт, что в документах HBA конца 1557 – начала 1558 гг. тема «русской угрозы», нависшей над Ливонией, стала занимать одно из главных мест.
Во всяком случае активность ливонских государей в этот период резко возросла. Среди материалов архива находится письмо Иоганна фон Хёте, посланника ландмарша-ла Ливонского ордена Яспера фон Мюнстера, в Пруссию, датируемое январем 1558 г., в котором говорится о том, что архиепископ Вильгельм Бранденбургский покинул свою резиденцию в Кокенгаузене (Кокнесе), чтобы лично провести смотр ополчения своих вассалов, после чего расположился в Ма-риенгаузене (Алуксне), находящемся неподалеку от русской границы [14, № 2146]. В другом документе, от 25 января 1558 г., речь идет о действиях жителей города Риги, которые самостоятельно вербовали кнехтов, вероятнее всего, для защиты города [14, № 2147]. При этом в документе говорится, что делали они это уже не в первый раз, из чего следует, что ливонцев все же беспокоила перспектива войны и они активно готовились к военным действиям. Следует также обратить внимание на письмо от 25 января 1558 г., в котором рижский архиепископ, ссылаясь на собственную слабость, просит своего политического противника, магистра Фюрстенберга, организовать оборону орденских замков Дюнабург (Даугавпилс), Зельбург (Селипель) и Розитен (Резекне), которые прикрывали подступы к его собственным владениям [14, № 2148]. Действия самого магистра, направленные на ускоренную подготовку Ливонии к войне, описаны также в письме архиепископа Вильгельма к капитану замка Тапиау Агасферу фон Брандту [14, № 2167].
Кроме того, в материалах HBA находится письмо магистра Ливонского ордена, в котором говорится о необходимости осуществления в Ливонии срочной мобилизации в связи с угрозой нападения «московитов» [14, № 2191]. Опасность войны с русскими и необходимость сбора сил и средств для обороны страны отчетливо понимали в Риге, Ревеле и Дерпте [14, № 2192]. Протоколы ландтага, который был созван после окончания военных действий, также содержат информацию о распоряжениях ливонского магистра по организации обороны [14, № 2181]. Между тем приказы об общей мобилизации исполнялись. Очень интересными представ-
Общество
ляются сообщения об отрядах самообороны, созданных ливонским дворянством – чисто дворянских или с привлечением крестьян, и даже крестьянами [16, c. 165– 167]. Это была ответная реакция на разо- рение местности, которую осуществляли русские войска [8, c. 360]. Отряды применяли партизанскую тактику: нападали на небольшие группы противника, увлекшегося грабежом, и уничтожали их.
Таким образом, говорить о бездействии должностных лиц ордена и ливонского дворянства не представляется возможным. Скорее всего, имело место отсутствие возможности объединить разрозненные силы и предпринять серьезные действия, в силу чего их усилия и оказались малоэффективными. Последнее можно объяснить в первую очередь отсутствием резерва времени (кампания длилась меньше месяца), широким фронтом наступления противника, его мобильностью и погодными условиями. Разобщенность действий ливонцев была также обусловлена сложной системой мобилизации, которая в обязательном порядке требовала созыва ландтага и принятия общего решения [19, c. 40–44].
Однако даже если бы Ливония могла успешно подготовиться к боевым действиям, то смогла бы эта маленькая страна дать отпор левиафану? Как известно, после проведения военной реформы вооружен- ные силы России значительно окрепли, что дало о себе знать завоевание Иваном IV Казани и Астрахани. Численность войска, направленного в Ливонию во время январского похода 1558 г., насчитывала, по разным оценкам, от 40 до 200 тысяч человек [6, c. 288–289; 9, с. 486–487; 15, с. 97–98], что даже при минимальных оценках представляло собой огромный человеческий ресурс, противостоять которому орден едва смог бы и в лучшие времена. Руководство Ливонского ордена хорошо представляло себе возможные последствия вторжения русского войска, что заставляло его постоянно стремиться к мирному разрешению всех сложившихся русско-ливонских противоречий [2, c. 540–543]. Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вполне определенный вывод: Ливония в январе 1558 г. встретила царское войско разобщенной, но не беззащитной. В течение зимнего похода армия Ивана Грозного разрушительным смерчем прошлась по ее восточным землям, однако в этой ситуации нельзя упрекнуть ливонские власти в полном бездействии и равнодушии, как это хотели бы изобразить протестантские хронисты.
Общество. Среда. Развитие ¹ 4’2014
Список литературы К вопросу об обороноспособности Ливонии накануне первой военной кампании Ливонской войны
- Арбузов Л.А. Очерк истории Лифляндии, Эстляндии и Курляндии. -СПб., 1912. -302 с.
- Бессуднов Д.А. Начало Ливонской войны в свете ливонских посольских дневников 1557 г.//Одиссос. Актуальные проблемы истории, археологии и этнологии. -Одесса: ТОВ Удача, 2012. -С. 540-542.
- Бессуднова М.Б. К предыстории Ливонской войны: продолжение дневника ливонского посольства 1557 г. в Москву в Шведском государственном архиве//Studia Slavica Et Balcanica Petropolitana. -СПб.: Издательство СПбГУ, 2012. -С. 153-171.
- Зимин А.А., Хорошкевич А.Л. Россия времени Ивана Грозного. -М.: Наука, 1982. -184 с.
- Зутис Я. Очерки по историографии Латвии: прибалтийско-немецкая историография. -Рига: Латгосиздат, 1949. Ч. 1. -259 с.
- Полное собрание русских летописей. Т 13. -М.: ЯРК, 2000. -544 с.
- Попов В.Е., Филюшкин А.И. Русско-ливонские договоры 1554 г.//Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. -СПб.: ИАЦ СПбГУ, 2010. № 1. -С. 109-130.
- Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. Т. 2. -Рига, 1879. -618 с.
- Соловьев С.М. История России с древнейших времен. -М.: Соцэкгиз, 1960. Т. 3. -814 с.
- Филюшкин А.И. Дискурсы Ливонской войны//Ab imperio: Теория и история национальностей и национализма в постсоветском пространстве. -СПб.: Издательство СПбГУ, 2001, № 4. -C. 43-80.
- Чтения в императорском обществе истории и древностей российских. Кн. 4. -М., 1846. -304 с.
- Шаскольский И.П. Русско-ливонские переговоры 1554 г. и вопрос о ливонской дани//Международные связи России до XVII в. -М.: Издательство Академии наук СССР, 1961. -С. 376-399.
- Bienemann F. Geschichte Livlands in den Jahren 1558-1562. Bd. 2.-Riga, 1865-1868. -S. 29-104.
- Geheimes Staatsarchiv preuβischer Kulturbesitz, XX, HA HBA.
- Rasmussen K. Die Livländische Krise. 1554-1561. -Kobenhavn: Universitetsforlaget, 1973. -241 s.
- Renner J. Livländische Historien 1556-1561. Zum ersten Mal nach der Urschrift hrsg. von Peter Karstedt. -Lübeck: Schmidt-Römhild, 1953.-150 s.
- Riksarkivet, Livonica I, vol. 24, Livo-Moscovitica.
- Schirren C. Quellen zur Geschichte des Untergangs livändischer Selbständigkeit. -Bd. 2. Reval, 1861-1862. -S. 98-167.
- Sennig A. Beiträge zur Heeresverfassung und Kriegsführung Altlivlands zur Zeit seines Untergangs. -Jena, 1932. -170 s.