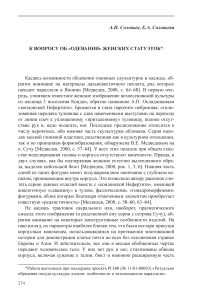К вопросу об «одевании» женских статуэток
Автор: Соловьев А.И., Соловьева Е.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521868
IDR: 14521868
Текст статьи К вопросу об «одевании» женских статуэток
Касаясь возможности облачения глиняных скульптурок в одежды, обратим внимание на материалы дальневосточного неолита, ряд которых находит параллели в Японии [Медведев, 2000, с. 64-68]. В первую очередь, упомянем известное женское изображение вознесеновской культуры из жилища 3 поселения Кондон, образно названное А.П. Окладниковым «кондонской Нефертити». Бросается в глаза нарочито небрежная, стилизованная передача туловища с едва намеченными выступами на переходе от линии плеч к уплощенному «приталенному» туловищу, полное отсутствие рук и, надо полагать, ног. Последнее предположение относится к числу вероятных, ибо нижняя часть скульптурки обломана. Серия находок мелкой глиняной пластики, родственная как в культурном отношении, так и по принципам формообразования, обнаружена В.Е. Медведевым на о. Сучу [Медведев, 2000, с. 57–64]. У всех этих поделок при общем сходстве моделирования головы и корпуса отсутствуют конечности. Правда, в двух случаях, как бы подчеркивая женское естество вылепленного образа, выделен небольшой бюст [Медведев, 2000, рис. 1, 3, 6]. Нижняя часть одной из таких фигурок имеет полушаровидное окончание с глубоким каналом, проникающим внутрь корпуса. Это позволило автору раскопок считать серию данных изделий вместе с «кондонской Нефертити», имеющей аналогичную «скважину» в тулове, фаллическими, «гинадроморфными» фигурками, облик которых благодаря отмеченным элементам приобретает известную «реалистичность» [Медведев, 2000, с. 58–60, 63–64].
Не касаясь трактовок сакрального или, наоборот, прагматического смысла этого изображения (и родственной ему серии с острова Сучу), обратим внимание на некоторые конструктивные особенности изделий. На наш взгляд, их параметры наиболее близки тем, что были исстари присущи корпусным манекенам, использовавшимся на протяжении многовековой истории для демонстрации платья почти во всех без исключения странах Европы и Азии. И действительно, все они в весьма обобщенных чертах передают человеческое тело. У них нет рук и ног, стилизованы обводы корпуса, включая сужение к талии, бюст и нижнюю расширенную часть торса. Разумеется, формы корпуса таких атрибутов могут быть различны: от весьма осанистых до вполне грацильных с выраженным анатомическим рельефом. Но все они имеют сквозное отверстие в туловище, в которое пропускается деревянный или металлический стержень с небольшой платформой внизу, служащий для установки манекенов в вертикальном положении. Разумеется, детали могут различаться (некоторые приспособления имеют головы и даже смоделированные черты лица), но основные конструктивные параметры присущи всему кругу подобных предметов.
Обратившись к охарактеризованной выше глиняной пластике, несложно заметить, как удобны вылепленные торсы для размещения разного рода одежд. Последнее легко подтверждается экспериментальным опытом «одевания» модели «кондонской Нефертити». С помощью палочки, закрепленной через отверстие в корпусе, можно «увеличить» рост фигурки, нарядить ее в длинные одежды и создать тем самым «полноразмерный» (ростовой) образ. Посредством той же самой палочки, воткнутой в землю, фигурка надежно фиксируется на горизонтальной поверхности. А если вместо обычного стержня использовать развилку, скульптурка обретает ноги. Подобный способ установки кукол и в наши дни можно встретить в самых разных углах ойкумены. Такая система фиксации корпуса позволяет легко манипулировать куклой во время разного рода церемоний, удерживая нижнюю часть стержня в руке. Удалив несущий стержень и согнув соответствующим образом свисающее с корпуса облачение, одетым фигуркам легко придать сидячую позу. Наличие отверстия в темени данной статуэтки тоже находит свое объяснение. Оно могло служить для фиксации шипом или нитью головного убора либо накладной прически.
Использование волос в оформлении мелкой обрядовой пластики хорошо известно по североазиатским материалам. Не менее распространен такой прием персонификации образа и в Новом свете. Так, алеуты крепили пряди волос к веревочке и обвязывали ее вокруг головы скульптурки [Иванов, 1949]. Широко практиковали размещение натуральных человеческих волос на головах антропоморфных поделок североамериканские тлинкиты [de Laguna, 1988, fig. 370, 373, 376], аборигены острова Кадьяк [Crowell, 1988, fig. 165].
Косвенным указанием на обычай обряжания скульптур могут служить находки на Корейском п-ве (поселение Сопхохан), а также материалы глиняной пластики лидовской культуры российского Дальнего Востока, стилизованно воспроизводящие человеческий торс, весьма напоминающие по пропорциям и абрису силуэты женских изображений вознесеновской культуры. Наиболее ярким их отличием является отсутствие смоделированных лиц. Фактически, головы этих поделок представляют собой плоскую, отогнутую назад пластину, форма которой (вместе с углом наклона) очень напоминает ту, что характерна для фигурок с Дальнего Востока. Таким образом, мы имеем дело с крайне стилизованными изображениями, лишенными каких-либо индивидуальных черт, делающих представляемые образы узнаваемыми. Их скорее можно считать модельными заготовками, чем персонифицированными сакральными объектами. Для того же, чтобы обрести свой статус (как показывает обрядовый опыт традиционных обществ самого широкого пространственного и хронологического диапазона), они должны были получить лица (скорее всего, наложением личин-маскоидов или простого нанесения их красками), соответствующее облачение и атрибутику, которые превращают абстрактные торсы в почитаемый сакральный персонаж. На статуэтках лидовской культуры сохранились отверстия, которые, по замечанию В.И. Дьякова, могли служить для крепления таких личин, сделанных из глины или мягких материалов [1987, с. 127]. И что особенно важно, последние имели на плечах (примерно там, где находятся у человека впадины плечевых суставов) специальные углубления, которые, вполне возможно, служили для крепления рук. Именно такое устройство статуэток (скорее всего, с подвижными руками), на наш взгляд, наиболее убедительно свидетельствует о присутствии у них специального облачения, ибо без этого соединение в единое целое частей скульптуры едва ли возможно.
Отметим, что многочисленные мужские и женские глиняные фигуры с аналогичными вертлужными впадинами на плечах для крепления несохра-нившихся конечностей известны среди терракотовых изделий ханьского Китая, где они в огромных количествах встречены в закрытых подземных камерах и представляли собой свиту, сопровождавшую погребаемую знать. Куски шелковой и конопляной тканей, обнаруженные в почве, указывают на то, что изначально фигуры были в одежде [Погребенные царства…, 1998, с. 138–139]. Одевали в Китае и разного рода деревянные скульптурки [Погребенные царства…, 1998, с. 156–157].
Еще одним свидетельством использования мягких органических материалов при создании сакральных образов могут служить находки терракотовых частей человеческих лиц, встреченные, например, на памятнике Хаттэн (префектура Иватэ, северо-восток Тохоку). Они представляют собой тщательно смоделированные носы, губы, уши. При этом с обратной стороны носа даже воспроизведены дыхательные каналы, а вокруг губ многочисленными точками передана окружающая их растительность. Характерной чертой всех этих поделок являются небольшие, расположенные по периметру отверстия. С высокой степенью вероятности их можно было использовать для апплицирования на выпуклую поверхность небольших мешочков, заполненных мягким органически материалом (например, травой, волосами и т.д.) и служивших головами для антропоморфных изображений. (В более поздней традиции аналогичные аппликативные материалы, выполненные уже из листового металла, известны в Китае.) Подчеркнем, что в Японии, как ни в одном другом регионе Евразии, до сих пор сохранилась традиция изготовления по самым различным поводам многочисленных фигур из органических материалов, непременно наряженных в какое-либо платье. В данном аспекте стоит напомнить и о распространенном на
Японских о-вах обычае в ряде случаев (как один из вариантов – на зиму) накидывать одежды на небольшие каменные антропоморфные изваяния божеств (например, «дзидзо», охраняющих покой усопших детей).
Резюмируя сказанное, можно считать, что с наименьшей степенью вероятности сакральные образы в глиняной пластике исходно задумывались как обнаженные. Очевидно, необходимые для узнавания черты придавались стилизованным моделям при использовании в их оформлении органических материалов и соответствующих прикладов. Вместе с тем, остается целая группа статуэток (например, некоторые типы декорированных антропоморфных японских догу), вопрос об использовании органических материалов в формировании облика которых пока не может быть разрешен. Их орнаментика может восприниматься и как украшения на одежде, и как татуировка тела. Отметим, что присущая таким фигуркам поза (с разведенным в стороны конечностями) не препятствует надеванию на них специально сшитых одежд, факт использования которых может быть подтвержден или опровергнут пространственным анализом расположения отверстий на тулове скульптур.