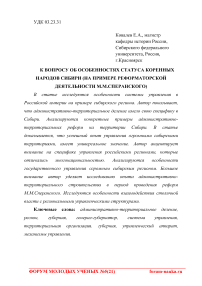К вопросу об особенностях статуса коренных народов Сибири (на примере реформаторской деятельности М.М.Сперанского)
Автор: Ковалев Е.А.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 5-2 (21), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются особенности системы управления в Российской империи на примере сибирского региона. Автор показывает, что административно-территориальное деление имело свою специфику в Сибири. Анализируются конкретные примеры административно-территориальных реформ на территории Сибири. В статье доказывается, что успешный опыт управления огромными сибирскими территориями, имеет универсальное значение. Автор акцентирует внимание на специфике управления российскими регионами, которые отличались многонациональностью. Анализируются особенности государственного управления огромным сибирским регионом. Большое внимание автор уделяет исследованию опыта административно-территориального строительства в период проведения реформ М.М.Сперанского. Исследуются особенности взаимодействия столичной власти с региональными управленческими структурами.
Административно-территориальное деление, регион, губерния, генерал-губернатор, система управления, управленческий аппарат, территориальная организация. губерния, механизмы управления
Короткий адрес: https://sciup.org/140282660
IDR: 140282660
Текст научной статьи К вопросу об особенностях статуса коренных народов Сибири (на примере реформаторской деятельности М.М.Сперанского)
Актуальность исследования проблем, связанных особенностями государственного устройства Российской империи, обусловлена нестабильностью современного мироустройства. В глобальном мире особую значимость приобретает изучение опыта взаимодействия центральных и региональных управленческих механизмов. Вопрос об особенностях взаимодействия с коренным населением на всем пространстве Российского государства является довольно сложным. Это, в частности, было связано с тем фактом, что административное деление часто не совпадало с географическими границами сибирского региона. Подобная ситуация приводит к серьезным разногласиям в среде ученых по вопросу о специфике государственного управления в Сибири.
Сторонники направления, доминирующего в государствоведении (В.С.Петров, Г.А.Манов, Б.А.Стародубский, В.Е.Чиркин, Т.Лангер, Б.Ковальски, В.Лопатка), исходят из того, что понятие формы государства составляют: форма правления, форма государственного устройства и политический режим. В.П.Зиновьев справедливо подчёркивает «Отношение к Сибири со стороны центра не меняется, но меняется удельный вес края в экономике страны, меняется геополитическое значение региона, поскольку его ресурсы стали главным экспортным потенциалом России» [1, с. 98].
Социально-политические изменения, которые испытала современная Россия, привели к переоценке принципов административно -территориального устройства страны. Выявился целый ряд структурных и функциональных недостатков, негативно влияющих на внутреннюю и внешнюю политику государства. В Сибири управленческие функции усложняются региональной спецификой, вследствие чего особый интерес приобретает изучение исторического опыта, тем более, что самодержавие также неоднократно сталкивалось с необходимостью совершенствования и приспособления сибирского административного управления к назревшим условиям жизни.
С управленческой точки зрения Российская империя представляла собой сложно организованное государственное пространство. Его длительная устойчивость объяснима именно с позиции поливариантности властных структур, многообразия правовых, государственных, институциональных управленческих форм, ассиметричности связей различных народов и территориальных образований. Однако, чем больше правительство добивалось успехов на путях централизации и унификации управления, тем более оно теряло гибкость и становилось неповоротливым, неспособным эффективно и адекватно реагировать на быстро меняющуюся политическую и социально-экономическую конъюнктуру, отвечать на национальные и модернизационные вызовы. Чем больше правительство добивалось успехов на путях централизации и унификации управления, тем более оно теряло гибкость и становилось неповоротливым, неспособным эффективно и адекватно реагировать на быстро меняющуюся политическую и социально-экономическую конъюнктуру, отвечать на национальные и модернизационные вызовы [2, с. 7].
Различные комбинации территорий в больших административных группах, т.е. генерал-губернаторствах, не только повторяли природный ландшафт в поисках естественных границ, но и активно формировали новую географию. Проекты нового управления Сибирью включали в себя следующие основные положения: 1) оптимальный вариант соотношения территориального и отраслевого начал в сибирском управлении; 2) стремление снизить остроту межведомственной разобщенности; 3) добиться распределения власти между центральными и местными государственными учреждениями; 4) попытки децентрализации.
Изучение особенностей взаимодействия русских с коренным населением в России предполагает регионально-управленческий исследовательский подход, который позволяет охватить ведущие сферы имперской региональной политики: имперская идеология и имперская практика в региональном прочтении; установление как государственных, так и административных границ региона; динамика управленческой организации внутри регионального пространства.
Значительная часть имперских проблем разворачивалась вокруг отношений между центром и периферией. Центр являлся особым символическим и организационным образованием, который стремился не только извлекать ресурсы из периферии, но и проникнуть в нее, перенести туда свои духовно-символические принципы, организационно мобилизовать ее для своих целей. Однако огромное пространство Российской империи, слабость коммуникаций и фрагментарное хозяйственное и демографическое присвоение новых территорий на Востоке требовали образования на линии «центр-периферия» новых центров, транслировавших функции главного имперского центра на удаленные регионы, имевшие потенциально важное политическое значение. Стремление к регионализму (сверх обычного деления на губернии или области) объясняется известным несоответствием традиционного административно-территориального деления особенностям экономики и политики, которые требовали более широких объединений. В свою очередь, крупные региональные образования воспроизводили общую схему структурируемого пространства, создавая свой центр и свою периферию. В Азиатской Росси большие региональные общности были оформлены в генерал-губернаторства с четко выраженной военноадминистративной доминантой.
Особое место в изучении специфики внутренней политики Российской империи на примере Сибири занимали пограничные области, в которых была не только упрощенная система управления при сохранении традиционных институтов самоуправления и суда, но и поддерживался длительное время явный приоритет военный власти над гражданской, внешние границы имели аморфные очертания и обладали большой подвижностью. В этом положении местная администрация становилась ответственной не только за внутреннее устройство области, но и за определение ее границ, в том числе и государственных, за проведение внешней политики в отношении сопредельных государств.
В зависимости от политических и экономических перспектив перемешались в сибирском пространстве и военно-административные центры. Для интеграции периферийных регионов в состав Российской империи чрезвычайно важным был не только процесс формирования внешних и внутренних границ, но и «оцентровывание» новой территории, создание локальных эпицентров имперского влияния. Их появление и миграция отражали изменение направленности региональных процессов, смену административных, военно-колонизационных, хозяйственных и геополитических приоритетов.
Региональная политика империи преследовала в коенчном истоне цели политической и экономической интеграции страны, установление социальной, правовой и даминистративной однородности. Однако конкретные потребности управления заставляли правительство продолжать учитывать региональное своеобразие территорий, в результате чего имперская политика на окраинах был противоречива . Это отражалось на взаимоотношениях центральных и местных властей, приводило к серьезным управленческим коллизиям. Переход от поливариантности в административное устройство к внутренне усложненной многовариантной модели неизбежно приводил к росту централизации и бюрократизации управления, допускающих лишь некоторую деконцентрацию власти на окраинах. В частности, существование генерал-губернаторства закрепляло мысль о том, что эта часть империи изымается из-под действия общего законодательства. Личностная природа генерал-губернаторской власти, при довольно частой смене генерал-губернаторов, неизбежно придавала дискретный характер правительственному курсу в отношении той или иной окраины. Смена лиц на генерал-губернаторском посту имела нередко определяющий характер на направление и успех правительственных мероприятий.
Периодически поднимался вопрос о реформировании сибирского губернского управления. Это объяснялось тем, что административные учреждения общего частного губернского управления, часто не справлялись в полной мере с поставленными перед ними управленческими задачами. Отсутствие четкого разграничения компетенции между губернскими советами и губернскими правлениями еще более усугубляло сложившуюся ситуацию в сибирских губерниях, ухудшало эффективность в деятельности учреждений. Однако решение этого вопроса на длительный срок.
В теоретическом и практическом отношениях на первое место выдвигается вопрос о том, «каковы внутренние взаимосвязи между этими элементами формы государства, какова диалектика их исторически сложившегося взаимного влияния друг на друга, постольку ответ на этот вопрос позволяет оптимизировать процессы государственно-правового строительства, вовремя выявлять рассогласование между отдельными элементами и посредством правотворческой и правореализационной деятельности устранять данные рассогласования, тем самым уменьшая количества формально-юридических предпосылок регионального сепаратизма и межнациональных конфликтов» [3, с. 79].
Все предыдущее управление Сибирью, сменявшие друг друга генерал-губернаторы заставили самодержавие начать поиск оптимального административно-территориального устройства края. Кроме того, царизм должен был как-то реагировать на бесконечный поток жалоб и доносов, на бесчинства местных чиновников. Безнаказанность местной администрации подрывала в глазах населения авторитет самодержавной власти, что могло привести к социальным конфликтам.
Государствам свойственен унитарный либо унитарноцентрализованный тип политического устройства. Базовым институтом, регулирующим территориальную организацию общества и определяющим взаимодействие его территориальных частей, является институт административного деления государства. Действия данного института обозначены соподчиненностью территориальных единиц при верховенстве
Центра и существовании единого поля компетенции и круга полномочий, подлежащих общему ведению государства в целом и его территориальных частей. Данному типу территориального устройства свойственны общие принципы и единая система организации власти во всех территориальных частях страны.
Ведущей линией государственной политики по отношению к сибирским народам на протяжении всего времени являлось толерантное отношение к формам их социальной организации, быта, образа жизни и хозяйствования. Большое значение для выработки системы устойчивого управления в Сибири имела деятельность М.М. Сперанского, который подготовил 10 проектов законодательных актов по важнейшим вопросам управления и правового регулирования жизнедеятельности Сибири. Многие из них предусматривали реформу территориального и административного устройства Сибирского края. Указанные 10 законодательных актов составили «Сибирское учреждение», подписанное императором Александром I 22 июня 1822 г. Реформа, инициированная и разработанная М.М.Сперанским, давала серьезный шанс коренным народам Сибири по сохранению и укреплению своего национальноправовой статус. Можно утверждать, что административнотерриториальные реформы способствовали появлению нового сословия в Сибири, вошедшего в историю как «инородцы», гуманное отношение к которому со стороны правительства. позволяет говорить о наличии своеобразной автономии.
Первая задача, стоявшая перед ним, заключалась в том, чтобы убедить жителей, что жалобы на начальство не являются преступлением. В Тобольске он задержался на месяц, чтобы решить дела, нетерпящие отлагательств, и разослать уведомления о вступлении в должность по всем губерниям. Однако нужно отметить, что большинство обвиненных во взяточничестве чиновников М. М. Сперанскому пришлось оставить на местах, так как их некем было заменить.
М. М. Сперанский считал, что недостатки «Учреждения о губерниях» 1775 года еще более усиливались в Сибири отсутствием дворянства, большими расстояниями, малочисленностью населения, недостатком чиновников и отсутствием действенного надзора за действиями администраций. В отчете ревизии особое внимание обращалось на необходимость установления законности в сибирском управлении и четкой организации государственного механизма.
Противоречия местного управления, заложенные в несогласованных реформах – губернской 1775 года министерской 1802 года, – порождали кризисные ситуации, которые особенно ярко проявились в специфических условиях удаленной от центра Сибири. Е. Игнатьев заключает, что «только при Александре I были попытки сделать для некоторых окраин чужое государство «своим» на началах права и справедливости. Попытки эти остались, почти все безрезультатными» [4, c. 8].
М. М. Сперанский хорошо понимал, что при существующем порядке управлять Сибирью невозможно. К этому времени и царское правительство пришло к выводу о том, что изменения в системе управления необходимы. В 1822 г. по инициативе М.М.Сперанского был введен Устав об управлении инородцев Сибири, в соответствии с которым сибирские народности делились на три группы – оседлые, кочевые и бродячие. В основе управления кочевых и бродячих народностей лежал родовой принцип.
3 ноября 1821 г. состоялось заседание, на котором были утверждены функции I Сибирского комитета [5, c. 145]. К ним относилось рассмотрение предложений по устройству Сибирского края, введение их в действие после принятия необходимых для того правил, рассмотрение представлений, поступающих от представителей местной власти, решение трудностей, возникающих при введении новых правил. По этим вопросам генерал-губернаторы Сибири должны были обращаться непосредственно в Комитет, на практике же сохранился общий порядок отношений с министерствами. Сибирский комитет имел право на осуществление координационных функций при определении правительственной политики по отношению к Сибири, ускоряя рассмотрение сибирских дел и, в какой-то степени, объединяя действия разрозненных ведомств и сибирских генерал-губернаторов.
Важным проектом М.М. Сперанского по развитию Сибирского края является «Устав об управлении инородцев». Интересен тот факт, что термин «инородцы» был впервые введен самим М.М. Сперанским, до него коренное население Сибири называлось «иноверцами» либо «ясашными» [6, с. 80]. Помимо того, что Михаил Михайлович ввел новый термин для обозначения коренного населения, он, в соответствие с «Уставом об управлении инородцев», разделил их на три категории в зависимости от рода занятий и образа жизни, ограничил опеку над ними со стороны русской администрации и полиции, разрешил им свободно торговать и предполагал устанавливать налоги и подати в соответствие с экономическими интересами каждого племени.
Сперанский разделил коренное население на три категории. К первой он отнес оседлые народы, живущие в городах и селах, и занимающиеся в большинстве своем земледелием и торговлей. Эта категория приравнивалась к сословию государственных крестьян и сравнивалась с ними в своих правах и обязанностях. Исключение составляло освобождение от рекрутской повинности. Устав закреплял за оседлыми те земли, которые принадлежали им по праву первоначального владения, устанавливая при этом норму в 15 десятин. Ко второй категории были отнесены кочевые народы, то есть те, которые вели полуоседлый образ жизни. Они приравнивались к крестьянам в налоговом отношении, сохраняя при этом самостоятельность в управлении и суде. Что касается третьей категории, то к ней были отнесены так называемые «бродячие инородцы». В отношении их в Уставе говорилось, что на них распространяются правила для кочующих народов. Целью подобного разделения был переход всех народностей в первую категорию, что возвело бы их в более высокий податной оклад государственных крестьян.
Следующая часть Устава была посвящена организации управления инородцами. Согласно Уставу органы самоуправления инородцев включали в себя три ступени: низшую – родовое управление, среднюю – инородная управа и высшую – степная дума. Низшая ступень состояла из старосты и одного или двух его помощников. Дела в родовом управлении решались словесно. Инородная управа, подчинявшая себе несколько стойбищ или улусов, включала в себя голову, двух выборных и письмоводителя. Что же касается степной думы, объединившей в себе несколько родов, то в ее состав входили главный родоначальник, избранные заседатели и головы [7, c. 151]. Хозяйственная деятельность управления сводилась, прежде всего, к сбору налогов и податей. Судебные функции ограничивались разбором незначительных гражданских дел на основе обычного права. Уставом допускался принцип наследственности при замещении должностных лиц на выборах. Устав разрешал свободную частную торговлю с инородцами, запрещая при этом торговать с ними чиновникам; регламентировал государственные, земские, уездные и частные выборы, оговаривая, что никакой новый государственный налог не может распространяться на инородцев, если об этом специально не указано; вводил для точного учета всех сборов специальные «шнуровые книги» [8, c. 232]. Также были статьи, посвященные культурно-бытовой жизни коренных народов Сибири. Кроме того, коренному населению разрешалось создавать национальные школы с преподаванием на соответствующем языке, но при этом не запрещалось обучение детей инородцев в русских школах. Сперанский не допускал насильственного крещения инородцев и не предусматривал никаких привилегий для тех, кто решил принять крещение.
«Устав об управлении инородцев» М.М. Сперанского не имел аналогов и являлся первым в России сводом законов, разработанным для такого обширного региона. Управление окраинами Российской империи и история национальной политики тесным образом связаны с решением проблемы сохранения территориальной и государственной целостности Российской империи. В силу своей сложности Российская империя требует регионального измерения, учитывающей следующую специфику: 1) время вхождения в состав империи; 2) географические факторы; 3) природноклиматические факторы; 4) удаленность от имперского центра; 5) этнический состав населения; 6) конфессиональный состав населения; 7) уровень социально-экономического развития; 8) влияние внешнеполитического окружения.
В различных регионах Российской империи наблюдались различные варианты протекания имперских процессов, поскольку с управленческой точки зрения Российская империя представляла собой сложно организованное государственное пространство. Именно поливариантность властных структур гарантировала России устойчивость на протяжении многих столетий, в которой аккумулировалось многообразие государственных, правовых, институциональных управленческих форм, а также разнообразие коммуникационных связей различных народов и территориальных образований. Однако, по мере достижения правительством реальных успехов на путях централизации и унификации управления, властный аппарат все больше лишался необходимой гибкости, становясь неспособным «эффективно и адекватно реагировать на быстро меняющуюся политическую и социально-экономическую конъюнктуру, отвечать на национальные и модернизационные вызовы». Царское правительство предоставляло право инородческим управам объединяться в Степную думу; у бурят было создано двенадцать, а у хакасов - четыре Степные думы. Управители всех степеней утверждались царской администрацией и находились под надзором местной полиции.
Постепенно доминирующей становится тенденция отказа от особых систем управления окраинами, которая особенно ярко стала проявляться со второй половины XIX века.
Реформа М.М.Сперанского 1822 г. в этом плане дала «инородцам» Сибири своеобразную автономию, национальный юридический статус с особыми правами и обязанностями. На огромной территории Сибири образовалось новое сословие, которое назвали «инородцами». Реформа подтвердила довольно гуманное отношение правительства к сибирским инородцам. Несмотря ни на что, политика государства неизбежно втягивала нерусское население Сибири в российскую цивилизации, поэтому народы Сибири к началу ХХ в. стали органической частью многонационального народа России [9, c. 267].
Разделение Сибири на Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское генерал-губернаторства с административными центрами, соответственно, в Тобольске и Иркутске создавало условия для улучшения системы управления в сибирском регионе. Формирование самодостаточных регионов за Уралом, со временем приобретавших самостоятельный административно-территориальный статус, позволяло максимально учитывать исторические, природные, социальные и духовные особенности проживающего на этих территориях населения.
«Сибирское учреждение» стало первым в истории страны региональным сводом законов, максимально отражающим социальные ожидания разных народов этого региона. Несмотря на это, данный документ имел свои недостатки, самым значительным из которых являлось отсутствие правовой системы ограничения генерал-губернаторская власти. Суть этой проблемы состояла в том, что в сферу влияния генерал-губернатора входили основные механизмы управления: надзор за деятельностью местных управлений при помощи ревизий их дел; назначение и увольнение чиновников; представление к наградам и пр.
Таким образом, совершенствование административно территориального устройства России тесным образом связано с решением проблем коренного населения, поскольку такой подход подтверждает важность гармоничных взаимоотношений между столицей и регионами. Особенно ярко это подтверждает история Сибири, которая в качестве центра Евразии выражает собой идентичность многонациональной страны. Исторически сложившееся внутреннее единство сибирских территорий в составе России к началу ХХ в. представляло собой один из важных результатов продолжительных поисков в административнотерриториальном строительстве государственности. Только в подобном контексте возможно объективно оценивать особенности административнотерриториального устройства России. Управление окраинами Российской империи и история национальной политики теснейшим образом связаны с решением проблемы сохранения территориальной и государственной целостности России.
Список литературы К вопросу об особенностях статуса коренных народов Сибири (на примере реформаторской деятельности М.М.Сперанского)
- Зиновьев В.П. Очерки социальной истории индустриальной Сибири. XIX - начало XX в. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2009. - 336 с.
- Ремнев А.В. Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX - начала XX веков: Монография. - Омск: Изд-во Омск. гос. ун-та, 2004. - 552 с.
- Шестакова Л.А. Полиэтничность как политико-территориальный фактор развития России: монография. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2009. - 238 с.
- Игнатьев, Е. Россия и окраины. - СПб., 1996. - 298 с.
- Власть в Сибири XVI - начало XX вв. // Межархивный справочник. 2-е изд., перераб. и доп. / Сост. М.О. Акишин. А.В. Ремнев. - Новосибирск: ИД «Сова», 2005. - 256 с.
- Сперанский С.И. Практика регионального управления М.М. Сперанского (1816 - 1821 гг.) // Государство и право.- 2003. - 312 с.
- М.М. Сперанский: Сибирский вариант имперского регионализма (к 180-летию сибирских реформ М.М. Сперанского) / Авт. И.Л. Дамешек, Л.М. Дамешек, Т.А. Перцева, А.В. Ремнев; Межрегион. ин-т обществ. наук (МИОН), Иркутск; Иркутск. гос. ун-т. - Иркутск: Оттиск, 2003. - 332 с.
- Сибирь в составе Российской Империи / отв. ред. Л.М. Дамешек, А.В. Ремнев - М.: Новое литературное обозрение, 2007. - 257 с.
- Иванов В.Н. Управление народами Сибири: исторический опыт (XVII- начало XX вв.). Управление Россией. Опыт. Традиции. Новации. XVII- XX вв.: коллективная монография. - М.: Наука, 2007. С. 251-268.