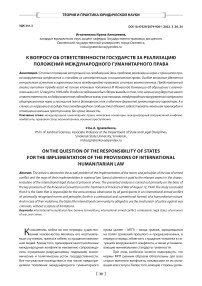К вопросу об ответственности государств за реализацию положений международного гуманитарного права
Автор: Игнатенкова Ирина Алексеевна
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 3 (68), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме реализации норм и принципов права вооруженных конфликтов и способам их имплементации в национальное право. Особое внимание уделяется актуальным аспектам в характеристике международно-правового статуса военнопленных. Представленный анализ выполнен прежде всего на основе ключевых положений III Женевской Конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года. В ходе исследования был сделан выводы о том, что именно государство несет ответственность за добросовестное соблюдение всеми участниками международного вооруженного конфликта общепризнанных норм и принципов (как в договорном, так и обычном формате) гуманитарного характера. А в случае их нарушений государство (международное сообщество) обязано задействовать механизм правосудия в отношении военных преступников, без срока давности.
Международное гуманитарное право, женевские конвенции, международный вооруженный конфликт, комбатанты, правовой статус военнопленных, военные преступления
Короткий адрес: https://sciup.org/14126282
IDR: 14126282 | УДК: 341.3 | DOI: 10.47629/2074-9201_2022_3_30_34
Текст научной статьи К вопросу об ответственности государств за реализацию положений международного гуманитарного права
Ксожалению, война во все периоды существования человечества являлась его неотъемлемым спутником, принося гибель и страдания миллионам людей. Кроме того, прошедшие многочисленные международные конфликты неизменно сопровождались страшными разрушениями, подрывали экономические и политические устои государственности. Все эти ужасные последствия, в том числе, предопределили появление международного гуманитарного права (далее – МГП) – свода правил, зародившихся на полях сражений прошлого и предназначенных, в первую очередь, облегчить страдания человека в ситуациях вооруженного конфликта, а также устанавливающие минимальные стандарты гуманности.
При этом, особенно хочется подчеркнуть, что нормы МГП равным образом обязательны для всех сторон военного конфликта, независимо от их мотивации или статуса. Более того, воющие стороны долж- ны уважать нормы МГП, даже если они нарушаются противником.
Как и другие отрасли международного права, МГП имеет три основных источника: договоры, обычаи и общие принципы права. Представляется, что МГП является одной из наиболее кодифицированных отраслей международного права, так как международным сообществом к началу XXI века накоплен солидный массив соглашений, регулирующих наиболее значимые аспекты военных конфликтов. Думается, что самыми востребованными договорами, с точки зрения международной практики, являются четыре Женевские конвенции 1949 года (далее – ЖК I-IV), Дополнительный протокол I к ним и многочисленные договоры о вооружениях,такие как Конвенция 1980 года о конкретных видах обычного оружия или Конвенция 2008 года по кассетным боеприпасам [6, с. 608].
При этом нормы обычного гуманитарного права, хотя и являются неписанным правом, не менее обязательны для исполнения, чем договорные нормы. Разница этих норм заключается в характере источника, а не в силе возникших на их основе обязательств. Например, в свое время Нюрнбергский трибунал постановил, что Гаагское положение 1907 года имело статус обычая и обязывало к соблюдению все государства независимо от их ратификации [7, с. 25].
Краеугольным камнем МГП является принцип, согласно которому «…единственная законная цель, которую должны иметь государства во время войны, состоит в ослаблении военных сил неприятеля» [1, с. 84]. Поэтому стороны в вооруженном конфликте должны всегда осуществлять свои действия только против комбатантов и исключительно военных объектов . Причем очень важно заметить, что это относится как к нападающей стороне, которая должна сделать все возможное, чтобы избежать случайных жертв среди гражданского населения, так и к обороняющейся стороне.
Одна из наиболее важных норм МГП устанавливает (общая ст. 3 ЖК I-IV), что все лица, которые попали во власть противника, имеют право на гуманное обращение независимо от их статуса и выполняемой ранее функции или деятельности: «Лица, которые непосредственно не принимают участие в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или полюбойдругой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых других аналогичных критериев» [8, с. 752].
Представляется интересным тот факт, что минимальные стандарты гуманности в условиях между- народных вооруженных конфликтах были зафиксированы в международных соглашениях и правовых доктринах еще Древнего мира и Средних веков. Так, например, в древнеиндийских законах Ману запрещалось использовать отравленное оружие, убивать стариков, женщин и детей, пленных. Средневековый итальянский мыслитель А. Джентили в своих трудах утверждал, что война должна вестись должным образом. Например, запрещалось вероломство, к которому, в том числе он относил жестокое отношение к пленным: «Пленные не являются преступниками; их нельзя убивать или обращать в рабство, если они не нарушили законов войны» [4, с. 17]. Данный тезис позднее развил известный швейцарский ученый и дипломат Э. де Ват-тель в своем трактате «Право народов» (1758 год), где он утверждал, что даже на войне следует быть милосердным: нельзя убивать противника, который перестал сопротивляться, жестоко обращаться с женщинами, детьми, стариками и пленными [5, с. 51].
Именно на характеристике современного международно-правового статуса военнопленных хотелось бы остановиться подробнее. Прежде всего, он определяется Конвенцией об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года (далее – ЖК-III), текст которой вступил в силу 21 октября 1950 года, спустя шесть месяцев после сдачи на хранение депозитарию двух ратификационных грамот. Первыми государствами, которые ратифицировали в 1950 году данную конвенцию были Швейцария, Индия, Лихтенштейн, Чили. Несколько позднее, она была ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 17 апреля 1954 года (с оговорками по ст. 10, 12, 85) и вступила в силу для СССР 10 ноября 1954 года.
При этом, в самом договоре (ст. 142) предусмотрена возможность денонсации (одностороннего выхода), но не для стороны, участвующей на тот момент в вооруженном конфликте: «Денонсация будет иметь силу лишь в отношении денонсирующей Державы. Она никак не будет влиять на обязательства, которые стороны, находящиеся в конфликте, будут обязаны продолжать выполнять в силу принципов международного права, поскольку они вытекают из обычаев, установившихся среди цивилизованных народов, из законов человечности и велений общественной совести» [8, с. 792].
В первую очередь нормы ЖК-III обозначают шесть категорий лиц (ст. 4), на которых распространяется правовой статус военнопленных – лиц,по-павших под власть неприятеля. Представляется, что ключевыми в этом перечне являются первые три категории:
-
1. Личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, а также личный состав ополчения и добровольческих отрядов, входящих в состав этих вооруженных сил.
-
2. Личный состав других ополчений и добровольческих отрядов, включая личный состав организованных движений сопротивления, принадлежащих стороне, находящейся в конфликте, и действующих на их собственной территории или вне ее, даже если эта территория оккупирована, если эти ополчения и добровольческие отряды, включая организованные движения сопротивления, отвечают нижеследующим условиям:
-
а) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных;
-
b) имеют определенный и явственно видимый издали отличительный знак;
-
с) открыто носят оружие;
-
d) соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны.
-
3. Личный состав регулярных вооруженных сил, считающих себя в подчинении правительства или власти, не признанных держащей в плену Державой. [8, с. 752].
Таким образом, статус военнопленных могут иметь только комбатанты.
В соответствии с положениями I Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, комбатантами являются все лица из состава вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, а также члены всех организованных вооруженных сил, групп и подразделений, находящихся под командованием лица, ответственного перед этой стороной за поведение своих подчиненных, даже если эта сторона представлена правительством или властью, непризнанными противной стороной.
В том числе ополченцы, повстанцы, мятежники и участники партизанских движений и вооруженных групп, находящиеся под контролем стороны, находящейся в конфликте, и вовлеченные в международный вооруженный конфликт, могут иметь статус комбатантов и членов личного состава вооруженных сил, при условии открытого ношения оружия при участии в боевых действиях и если они подчиняются режиму иерархического командования и внутренней дисциплины, которые способны обеспечить, в частности, соблюдение норм МГП [2, с. 47].
К комбатантам не относятся медицинский и духовный персонал, так как они не должны участвовать в боевых действиях; не могут быть объектом непосредственного вооруженного нападения противника; на них не распространяется режим военного плена. Также комбатантами не признаются наемники и диверсанты.
Военнопленные сохраняют свой правовой статус с момента попадания в плен до репатриации. Отдельно следует заметить, что согласно ст. 12 ЖК-III военнопленные находятся во власти государства, а не отдельных лиц или воинских частей, взявших их в плен. Именно государство, в лице конкретных государственных лиц несет ответственность за гуманное обращение с военнопленным, за соблюдением норм МГП. Пытки и другое жестокое обращение с военнопленными считаются военными преступлениями: «В частности, ни один военнопленный не может быть подвергнут физическому калечению или же научному или медицинскому опыту какого бы то ни было характера, который не оправдывается соображениями лечения военнопленного и его интересами» [8, с. 773].
Статьи 21-108 ЖК-III подробно регламентируют обращение с военнопленными. Так плененный обязан только сообщить о своей фамилии, имени и звании, дате рождения, личном номере. Нельзя принуждать его давать другие сведения.
Военнопленные, у которых хорошее здоровье могут привлекаться к работе. Привлекать их к опасной работе можно только с согласия плененного. Государство, которое держит в плену военных другой страны, имеет право предавать их суду за тедействия, которые они совершали до взятия в плен. Тем не менее преданные суду военнопленные имеют право на надлежащее судопроизводство, а в случае осуждения не теряют статуса военнопленных. Однако, их репатриацию можно отложить до конца срока отбытия наказания «репрессалии по отношению к военнопленным запрещены во всех случаях без исключений обстоятельствах» [1, с. 86].
Отметим, что смертный приговор в отношении военнопленного может быть приведен в исполнение не ранее чем через шесть месяцев после его вынесения; запрещается приводить в исполнение смертный приговор в отношении лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста; запрещается выносить смертный приговор в отношении беременных женщин или матерей, имеющих малолетних детей. Военнопленные подчиняются законам держащей, в плену державы, и особенно уставам и приказам, действующим в вооруженных силах (ст. 82-108). В соответствии с законом в случае противоправных действий по отношению к ним могут быть применены судебные или дисциплинарные меры.
Очень важную группу положений ЖК-III составляют правила, относящиеся к репатриации военнопленных (ст. 109-119). Здесь выделяются три категории лиц. Тяжелобольные и тяжелораненые немедленно подлежат непосредственной репатриации, как только это позволит состояние их здоровья. Все остальные военнопленные должны быть освобождены и репатриированы сразу после прекращения военных действий. Неоправданная задержка репатриации военнопленных является серьезным правонарушением [8, с. 789].
Таков в общих чертах, юридически закрепленный в международных соглашениях правовой статус военнопленных, нарушение которого приравнивается к военным преступлениям и подразумевает усугубленную, то есть самую серьезную международную ответственность.
К сожалению, приходится констатировать, что несмотря на юридическую значимость текста ЖК-III для 196 государств, ратифицировавших ее (все государства ООН, а также Святой Престол, государство Палестина, острова Кука), мы имеем многочисленные примеры нарушений норм МГП вообще, и негуманного отношения к военнопленным, в частности.
Так, например, недавно в своем официальном заявлении Организация Объединенных Наций призвала Россию и Украину в обращении с военнопленными руководствоваться гуманитарным правом: «Мы обеспокоены вызывающими тревогу видеозаписями со злоупотреблениями в отношении военнопленных. Ко всем военнопленным нужно относиться с уважением, полностью соблюдать их права в соответствии с международным гуманитарным правом». Данную ситуацию прокомментировал и представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, который призывал рассмотреть факты жестокого обращения с российскими во-еннопленными.«Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы» [9].
Действительно, некоторые области МГП требуют правовой коррекции для того, чтобы предоставлять более эффективную гуманитарную защиту лицам, оказавшимся в эпицентре современного вооруженного конфликта. Однако, более актуальной потребностью является не принятие новых норм, а скорее, обеспечение реального соблюдения уже действующих.
Представляется, что именно факт существования соответствующих договорных и обычных норм и принципов МГП и является той международной правовой базой для привлечения к ответственности лиц (без срока давности), совершивших военные преступления, в том числе и в отношении военнопленных.
Пожалуй, первым примером привлечения к международной ответственности за военные престу-пленияможет послужить нюрнбергскийтрибунал– это первый в истории международный суд, наказавший, немецких государственных и военных деятелей, вино- вных в подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, а также в убийствах и жестоком обращении с военнопленными и военнослужащими стран, с которыми Германия находилась в состоянии войны.
Только советских солдат в годы Великой Отечественной в плену погибло более трёх миллионов, а это почти 60 процентов всех красноармейцев, оказавшихся в плену. Их морили голодом, мучили непосильным трудом, избивали и сжигали в многочисленных немецких концлагерях.
В том числе и за эти преступления в 1945 году виновные предстали перед международным правосудием, которое приговорило большинство из подсудимых к смертной казни [4, с. 24].
В заключении следует заметить, что правовой статус военнопленных, который закреплен в Женевской конвенции 1949 года, устанавливает минимально необходимую защиту участникам вооруженных конфликтов, но не определяет конкретные элементы механизма его реализации и не гарантирует исполнения обязательств. Именно в ходе практических усилий по реализации данного механизма должна проявиться сущность конкретного государства, в том числе в процессе имплементации международноправовых норм в национальную систему права. Если государство будет отчетливо осознавать всю степень ответственности за взятые на себя международные гуманитарные обязательства, и эти обязательства не будут носить формальный, прописанный лишь на бумаге характер, тогда и фактов совершения военных преступлений будет намного меньше.
Представляется, что одним из эффективных средств реализации данного курса является категорическая необходимость соответствующим государственным структурам идолжностнымлицам(военным прежде всего) доведения до личного состава вооруженных сил обязанности строгого соблюдения норм МГП, в частности режима военного плена, вплоть до уголовной ответственности в случаи их нарушения. Так, например, было обозначено в Приказе Министра обороны РФ от 08.08.2001 № 360 «О мерах по соблюдению норм международного гуманитарного права в Вооруженных Силах Российской Федерации»[3].
Список литературы К вопросу об ответственности государств за реализацию положений международного гуманитарного права
- Женевская Конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XVI, - М.: Государственное издательство политической литературы, 1957. - 272 с.
- Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), 1977 года // Международная защита прав и свобод человека. - М., Юридическая литература, 1990. - 156 с.
- Приказ Министра обороны РФ от 08.08.2001 № 360 "О мерах по соблюдению норм международного гуманитарного права в Вооруженных Силах Российской Федерации" // [Электронный ресурс] Режим доступа: https://base.garant.ru/191609/(дата обращения 28.08.2022).
- Анисимов И.О., Комендантов С.В. История международного права: учебное пособие / под науч. ред. С.А. Егорова. - Москва: Проспект, 2021. - 80 с.
- Бекяшев К.А. Международное право: учебник. - М.: Проспект, 2020. - 896 с.
- Международное право: учебник / под ред. А.Н. Вылегжанина. - М.: Издательство Юрайт, 2010. - 1003 с.
- Международное гуманитарное право. Общий курс / отв. ред. Нильс Мельцер. - Москва: МККК, 2017. - 417 с.
- Международное право в документах: учебное пособие / Сост. Н.Т. Блатова. - Москва: Юридическая литература, 1982. - 856 с.
- Организация Объединенных Наций // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.un.org/ru/(дата обращения 28.08.2022).