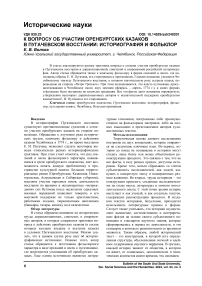К вопросу об участии оренбургских казаков в пугачевском восстании: историография и фольклор
Бесплатный доступ
В статье анализируются разные трактовки вопроса о степени участия оренбургских казаков в Пугачевском восстании в дореволюционной, советской и современной российской историографии. Автор статьи обращается также к казачьему фольклору в форме сказаний и песен, где воплощены образы Е. И. Пугачева, его сторонников и противников. Главное внимание уделяется Челябинскому эпизоду Пугачевского восстания, в котором значительную роль сыграли казаки, перешедшие на сторону «Петра Третьего». При этом подчеркивается, что власть пугачевцев, просуществовавшая в Челябинске около двух месяцев (февраль - апрель 1774 г.), в своих формах и функциях была построена по казачьим традициям. Все эти факты дают основание опровергнуть утверждения некоторых дореволюционных авторов о незначительной поддержке оренбургским казачеством Е. И. Пугачева и его сторонников.
Оренбургское казачество, пугачевское восстание, историография, фольклор, культурная память, челябинск, исетская провинция
Короткий адрес: https://sciup.org/147243247
IDR: 147243247 | УДК: 930.23 | DOI: 10.14529/ssh240201
Текст научной статьи К вопросу об участии оренбургских казаков в пугачевском восстании: историография и фольклор
В историографии Пугачевского восстания существуют противоположные суждения о степени участия оренбургских казаков на стороне повстанцев. Обращение к изучению ряда исторических трудов, казачьему фольклору и действиям казаков Челябинска в 1774 г., во время восстания Е. И. Пугачева, позволяет сделать некоторые выводы относительно разных историографических трактовок. При этом стоит отметить, что ряд сказаний и песен фольклорного характера, появившихся в среде оренбургского казачества, дает возможность понять данную проблематику в пространстве культурной памяти. Большие территориальные рамки (Оренбургская, Казанская, Нижегородская, Астраханская и Сибирская губернии), массовое участие народных низов, длительность восстания по времени и неоднократные «возрождения» сил Пугачева после нескольких серьезных военных поражений позволяют говорить о его массовой поддержке не только крестьянством, работными людьми, тюркоязычным населением (башкиры, татары, казахи), но и казачеством.
Обзор литературы
В статье обращено внимание на исторические труды дореволюционных, советских и современных авторов, в которых содержатся трактовки вопроса о действиях оренбургских казаков (в состав которых входили илецкие и исетские казаки) в условиях Пугачевского восстания. Можно сказать, что в данном случае речь идет об историографических источниках. Помимо этого, автор статьи обращается к источникам фольклорного характера в виде преданий и песен о пугачевщине, где встречаются упоминания об оренбургских казаках. Еще одним источником являются литера- турные сочинения, построенные либо преимущественно на фольклорном материале, либо на личных изысканиях и представлениях авторов художественных текстов.
Методы исследования
Теоретическая основа данного исследования построена на двух концепциях, которые опираются на следующие ключевые идеи. Во-первых, история до конца не познаваема и историки могут создать лишь более или менее объективную реконструкцию прошлого. Это связано с тем, что не все факты, в силу разных причин, доступны историкам. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов субъективность исследователей, как людей, живущих в конкретную эпоху и подверженных разным влияниям. Во-вторых, труды историков - это конструкции прошлого, созданные исследователями на стыке науки, литературы и личного интеллектуального опыта. С этой точки зрения историк выступает и как ученый, и как создатель текстов, содержащих реконструкцию прошлого. В создании текстов историкам, безусловно, приходится использовать литературные приемы и формы. Следует также учитывать, что историки осуществляют выявление, систематизацию и интерпретацию фактов на основе своего субъективного понимания и стандартов научного знания, которые сформировались в период их деятельности, и эти стандарты в контексте развития науки со временем меняются. Таким образом, любой исторический текст - это конструкция, в которой есть определенная структура, обусловленная логикой и идейным содержанием научного нарратива. В-третьих, каждый историк зависит от общества, в котором он живет, от социальных, экономических и политических контекстов своего времени, что, несомнен- но, влияет на его личный опыт и отражается в исследованиях прошлого. Таким образом, с одной стороны, историк создает историческое знание под влиянием разных факторов и своего личного опыта, а с другой стороны, созданное им историческое знание влияет на коллективную память общества о прошлом, формируя его образы.
Концепция «историографической операции», сформулированная в свое время французским философом и историком Мишелем де Серто (Michel de Certeau), позволяет понять место историков в обществе и специфику их деятельности. Мишель де Серто справедливо полагал, что работа историка складывается из трех взаимосвязанных уровней. Во-первых, историографическая операция является социальным продуктом, то есть любое историческое исследование создается в определенном социальном, экономическом и политическом контекстах, что, безусловно, влияет на его автора. Во-вторых, история является специальной практикой, техникой историка, связанной с изучением исторических источников и процедурами их интерпретации. В-третьих, исследователь занимается исто-риописанием, и в этом процессе переплетаются научные интерпретации прошлого и воображение автора текста, которое, безусловно, носит субъективный характер. По мнению Мишеля де Серто, задача историка заключается в том, чтобы свести к минимуму ошибки текста, выявить ложное, разрушить фальсификацию, но при этом отдавать себе отчет в том, что не существует окончательной и бесповоротной истины в реконструкции прошлого [1, p. 70; 2, с. 49–51].
На историков, безусловно, влияют и материалы о прошлом, с которыми они работают. В нашем случае это прежде всего источники фольклорного характера, которые представляют собой один из медийных каналов культурной памяти общества. С точки зрения концепции, разработанной немецким исследователем Я. Ассманом (Jan Assmann ) , культурная память является составной частью коллективной памяти (наряду с коммуникативной), но существует в публичном пространстве и выражена в научном, художественном, политическом и иных дискурсах, связанных с коллективными представлениями о прошлом [3, с. 19–56].
Результаты и дискуссия
Как известно, А. С. Пушкин, классик русской литературы, прославился не только своими поэтическими и прозаическими сочинениями. Он стал одним из первых исследователей пугачевщины, выпустив в 1834 г. свой труд «История Пугачевского бунта»1. Опираясь на официальную доку- ментацию из архивов, письменные источники личного происхождения и устные свидетельства, Пушкин воссоздал основные события, связанные с этим восстанием. При этом в ряде мест своего труда он указал, что не только яицкие, оренбургские (среди которых выделялись группы илецких и исетских казаков), но и даже присланные для борьбы с пугачевщиной донские казаки зачастую оказывались ненадежны. Описание Пушкиным действий оренбургских казаков в контексте данных событий в основном укладывается в следующие схемы: либо они, не вступая в бой, сразу переходили на сторону пугачевцев (самый известный случай – сотник Т. И. Подуров2 со своими подчиненными); либо находились на подозрении у военного и гражданского начальства, поэтому их не бросали в бой в полевых условиях, а предпочитали оставлять в крепостях; либо при поражении правительственных войск они, оказавшись в плену, переходили на сторону самозванца [5, с. 19, 21, 22, 24, 28, 34–35, 39, 64].
По сути, против пушкинской трактовки выступили во второй половине XIX в. первые историки оренбургского казачества, среди которых были преимущественно офицеры и чиновники. Например, П. И. Авдеев в своей «Исторической записке об Оренбургском казачьем войске», созданной в 1873 г., утверждал, что Пушкин был не прав. Он указывал, что оренбургские казаки и входящие в их состав исетские казаки, несмотря на отдельные случаи предательства (сотник Под-уров и неслужащий казак Василий Торнов), «остались верны своему долгу». Для убедительности своих слов Авдеев привел факты героизма исет-ских казаков при обороне Оренбурга: атаман Хан-жин получил «контузию ядром», полковник Уг-лицкий участвовал в нескольких вылазках и захватил в плен «…посланного Пугачевым в Оренбург со злым намерением шпиона» [6, с. 128–133].
Другой историк оренбургского казачества, Ф. М. Стариков, отмечал, что несмотря на казни и унижения (дочерей и жен) в захваченных мятежниками крепостях, «…оренбургские казаки все время мятежа оставались верными Царю и отечеству». Стариков указывал, что даже попав в стан пугачевцев, «…оренбургские казаки, увлеченные насильно, считались людьми неблагонадежными, так как они то и дело оставляли лагерь мятежников и уходили в Оренбург» [7, с. 85, 88].
Советские историки были близки к пушкинской трактовке и подчеркивали тезис о массовом участии казаков Урала в борьбе против самодержавия на стороне Пугачева. Опираясь на марк- систский подход, они строили свои объяснения вокруг экономических и социальных факторов, связанных с обеднением казачьего населения и притеснениями его властями [8, 9].
В то же время память о борьбе казачества Урала против российских властей на стороне пугачевцев зафиксирована в фольклоре в виде преданий и песен. Такого рода фольклорные материалы стали собираться и исследоваться еще В. И. Далем и А. С. Пушкиным, а затем рядом энтузиастов во второй половине XIX – начале ХХ века. При этом следует заметить, что сказаний о пугачевщине больше, чем песен, и такие рассказы сю-жетно более совершенны с точки зрения композиции и содержания, нежели песенный фольклор [10, с. 174–175].
Культурная память о пугачевщине, зафиксированная в фольклоре, по своему идейному содержанию разнородна. Как отмечал еще в начале ХХ в. писатель и публицист В. Г. Короленко, «…устное предание о событиях, связанных с именем Пугачева, разделилось: часть ушла в глубь народной памяти, подальше от начальства и господ, облекаясь постепенно мглою суеверия и невежества, другая, признанная и, так сказать, официальная, складывалась в мрачную аляповатую и тоже однообразную легенду» [11, с. 536].
Помимо многочисленных сказаний и песен фольклорного характера о Пугачеве, появившихся и имевших хождение среди уральских казаков [12; 10, с. 227–297; 11; 13, с. 140–142], в Оренбуржье, как и в других регионах России, которые охватило восстание, предания о пугачевщине также стали фактами культурной памяти. Например, исследователи отмечали, что в народной среде на Урале часто старики считали время своего рождения от Пугачева [13, с. 113]. Для казачьих преданий характерна вера в Пугачева как настоящего императора Петра Третьего, который был близок к народу, смел и справедлив. Данное представление, безусловно, оправдывало казаков, перешедших на его сторону.
Обратимся к фактам участия оренбургских казаков в Пугачевском восстании, встречающимся в фольклоре. Например, предание «Пугачев в крепости Рассыпной» гласит, что, как только повстанцы во главе с «Петром Третьим» пошли на приступ, ворота, вопреки приказу коменданта, открылись и «казаки – кто пешком, кто на коню – из крепости да прямо к Пугачеву» [14, с. 56]. В одном из сказаний имеется такая фраза о Пугачеве, который шел со своим войском из Яицкого городка на Оренбург: «С фортпостов Петр Федорович забирал всех казаков в свою рать». Другой рассказчик свидетельствует, что при вступлении Пугачева в Илецкий городок казачья команда численностью 300 воинов «оробела и преклонилась ему», а командовавший казаками атаман Л. И. Портнов был повешен [10, с. 307, 308].
С противоположных идейных позиций выступали сторонники государственной точки зрения, стремясь развенчать бытовавший в народных низах позитивный образ Пугачева, называя его самозванцем и преступником, и, таким образом, осудить казаков, перешедших на его сторону. Так, в одной из народных песен есть следующие слова, где говорится о Пугачеве и примкнувших к нему илецких казаках:
Он к Илецку подходил,
Из пушечек палил.
Илецкие казаки –
Изменщики-дураки –
Без бою, без драки
Предались вору-собаке [10, с. 179].
Еще одним примером подобного рода является вышедшая в Москве в 1863 г. повесть неизвестного автора. На титульном листе книги было указано, что ее текст основан на «Оренбургских преданиях». Главный герой книги – молодой двадцатилетний илецкий казак Владимир Творогов, сын урядника. По неопытности и незнанию, он, думая, что Пугачев – истинный «русский царь», прощается с любимой шестнадцатилетней девушкой Верой Бавиной, дочкой хорунжего, и уезжает из форштадта Оренбурга на реку Яик, чтобы примкнуть к повстанцам и «искать себе счастья». В войске Пугачева Владимир получил чин есаула (затем – полковника) и стал адъютантом «Петра Третьего». Забыв свою любовь, женился на яицкой казачке, невесте с богатым приданным. Но по прошествии времени, осознав, что служит не настоящему царю, а самозванцу, он начинает борьбу против пугачевцев. И в итоге берет в плен главного «преступника, забывшего закон Всевышнего» и «врага рода человеческого». Получив прощение от властей, Владимир возвращается к любимой невесте Вере [15].
Таким образом, повесть представляет обобщенный образ казака, служившего у Пугачева, хотя его фамилия – Творогов – отсылает к реальному историческому лицу Ивану Александровичу Творогову (1742 – не ранее 1820), илецкому казаку, перешедшему к повстанцам и возглавлявшему в их рядах полк. Он даже являлся членом Военной коллегии. На завершающем этапе восстания Тво-рогов стал одним из главных заговорщиков, которые схватили Пугачева и передали его властям. Творогова помиловали, но выслали на пожизненное поселение в Лифляндскую губернию [4, с. 417–418]. В целом обращение к данному сюжету, связанному с прегрешением и прощением казака, преступившего закон, является показательным, поскольку повесть носила дидактический характер и как бы реабилитировала таких казаков, служивших Пугачеву и затем отвернувшихся от него.
В советской исторической художественной литературе, безусловно, нашлось место и для образа известного офицера Оренбургского казачьего войска Тимофея Ивановича Подурова, сподвижника
Пугачева. Писатель В. И. Пистоленко к 200-летней годовщине «Крестьянской войны» создал исторический роман, в котором главным персонажем является именно этот казачий сотник. Конечно, он предстает под пером писателя как борец за интересы народа. Подуров, будучи образованным офицером и бывшим депутатом Уложенной комиссии, зная, что Пугачев – «ненастоящий царь», сознательно примыкает к нему, чтобы бороться против самодержавия [16]. По сути, советский писатель не отходит от пушкинской линии в трактовке об участии казаков в пугачевщине, но при этом наделяет своего героя исключительно позитивными характеристиками, что, безусловно, не придает его историческому роману убедительности.
Таким образом, как в историографии, так и в фольклоре трактовки о степени участия оренбургских казаков в пугачевщине отличаются противоположными суждениями. Какие же из этих утверждений более убедительны с точки зрения их опоры на фактический материал?
Помимо ряда фактов, приведенных А. С. Пушкиным, о ненадежности казаков в период Пугачевского восстания, известен также случай с Челябинском, бывшим тогда центром Исет-ской провинции. Город, как известно, в феврале – апреле 1774 г. оказался под властью пугачевцев, и большую роль в его захвате повстанцами сыграли именно казаки. Среди дореволюционных историков об этих событиях во второй половине XIX – начале ХХ в. более подробно писали Н. Ф. Дубровин и А. И. Дмитриев-Мамонов, используя документы пугачевцев и российских властей того времени [17, с. 216– 222, 351–373; 18; 19].
В советской историографии краткое описание челябинского эпизода Пугачевского восстания, связанного с казаками, появилось в небольшой работе А. Берса «Пугачевщина на Урале» (1924) [20]. Затем, в середине 1960-х гг., историк Ю. А. Лимонов попытался на основе отрывочных данных создать штрихи к биографиям Ивана Грязнова и Григория Туманова, предводителей пугачевцев, связанных с захватом Челябинска и устройством там новой власти [21]. Среди современных работ следует отметить изыскания Г. Х. Самигулова, изучившего, прояснившего и обобщившего разные аспекты челябинских событий в контексте истории «Пугачевского бунта» [22; 23, с. 120–131].
Особенности челябинской истории состоят в том, что среди жителей города, основанного в 1736 г. как крепость, доминировали казаки (набранные ранее преимущественно из крестьян). В данное время, согласно официальным сведениям, здесь проживало около 3 тыс. обывателей, большую часть из которых составляли казаки вместе с семьями (1672 человека) [23, с. 120].
Значительную роль в дестабилизации обстановки в Челябинске сыграли слухи о приближении пугачевцев во главе с «полковником» И. Н. Грязновым. В результате 5 января 1774 г. казаки численностью около 200 человек во главе с атаманом Михаилом Уржумцевым и хорунжим Наумом Невзоровым, подняли мятеж, который, как известно, закончился неудачно для восставших. Часть казаков была арестована, в том числе атаман Ур-жумцев. Остальные участники мятежа с хорунжим Невзоровым бежали из города и вместе с крестьянами Кыштымского и Каслинского заводов, с тобольскими казаками присоединились к пугачевцам.
Другой особенностью данных событий стали призывы пугачевцев в разных формах, и устных, и письменных, прекратить сопротивление и переходить на их сторону. Так, в ночь на 7 января 1774 г. казаки с хорунжим Невзоровым подъезжали к челябинским укреплениям и призывали сдать город. Известны также три послания Грязнова в Челябинск. Видимо, 8 января 1774 г. было отправлено два послания. Одно из них предназначалось помощнику воеводы Исетской провинции В. И. Свер-бееву (сам воевода статский советник А. П. Веревкин сильно пострадал во время казачьего мятежа, был избит). В послании содержался призыв не проливать христианской крови и сдать город. Второе послание адресовалось городским низам, где утверждалось, что чиновники и дворяне нарушают Закон Божий, разоряют народ и издеваются над ним. При этом «Петр Третий» стремится освободить простой люд от несправедливой власти дворян, администрации, заводчиков. Третье послание, как полагают исследователи, было отправлено в один из последующих дней до 13 января и представляло собой ответ на манифест городских властей Челябинска, где Пугачев назван «самозванцем». Послание Грязнова гласило, что Пугачев – «подлинный государь» и главная его цель – борьба с дворянством, разоряющим народ [21, с. 98, 100–102].
Несмотря на все эти призывы, Челябинск не сдавался и два штурма пугачевцев (8 и 10 января) оказались безуспешными. Кроме того, через несколько дней город получил военную поддержку: 13 января прибыли две полевые команды Сибирского корпуса (около 1200 человек) во главе с генералом-поручиком И. А. Деколонгом. Пугачевцы отступили к Чебаркульской крепости.
В это время в городе началось расследование по делу мятежных казаков. В результате из 63 арестованных 50 посчитали виновными, 13 из них признали главными зачинщиками бунта и приговорили к битью кнутами, вырезанию ноздрей и установлению клейма на лбу и щеках со словом «вор». 23 января провели экзекуцию. Под плетьми умерли атаман Уржумцев и, возможно, хорунжий Невзоров, попавший в плен при штурме Челябинска (по другой версии он был убит в бою) [21, с. 103].
Еще одним аспектом данной истории является то обстоятельство, что Деколонг уже в немолодом возрасте (58 лет), как главный военный руководитель на тот момент в Челябинске, оказался слабым «воякой». Как известно, его предыдущая карьера складывалась главным образом в военно-инженерных войсках и на комендантских должностях [4, с. 114–115], что, возможно, наряду с возрастом и обусловило его действия. Необходимо заметить, что А. С. Пушкин, как историк Пугачевского восстания, отнес Деколонга к ряду высокопоставленных военных – иностранцев на русской службе, которые действовали против повстанцев «слабо, робко, без усердия» [5, с. 129].
В итоге, когда пугачевцы стали 1 февраля 1774 г. вновь наступать на город, формирования регулярных войск Деколонга отразили натиск, но не сумели окончательно разбить противника. В этих условиях, немного отступив, «полковник» Грязнов сделал своей ставкой деревню Першино близ города. Вскоре Деколонг неожиданно отдал приказ оставить город и двигаться на Шадринск, с перспективой – на Екатеринбург. Вместе с военными из Челябинска эвакуировалось большое число чиновников, военных, жителей города вместе с семьями, крестьян (всего 1922 человека). Казаков среди них насчитывалось только 162, но воевода Веревкин около 1350 крестьян, бывших с ним, записал во «временные казаки».
Вскоре, 8 февраля 1774 г., Челябинск был занят пугачевцами, силами которых командовал «полковник» Василий Михайловский. Первое время он выступал как наказной атаман, ему подчинялись казаки близлежащих крепостей и селений. Здесь были созданы новые выборные органы власти по типу казачьего самоуправления: «походные атаманы», «есаулы», «станичные атаманы». Эти учреждения действовали как гражданская и военная администрация. К функциям походного атамана относились следующие: вершить суд, заниматься охраной порядка в городе и провинции, обеспечивать снабжение продовольствием пугачевские войска, а также их пополнение «новобранцами», заготавливать боеприпасы и наладить ремонт вооружения. После ухода значительной части пугачевцев на запад, главой Исет-ской провинции и наказным атаманом стал Григорий Туманов (из крестьян Воскресенского завода Я. Б. Твердышева, в отрядах И. Н. Грязнова он был с ноября 1773 г.) [24]. Сохранилась его переписка с главами подчиненных территорий по разным вопросам. Переписка демонстрирует те проблемы, которые решали новоиспеченный глава Исетской провинции в «государстве Пугачева» Туманов и его помощник – станичный атаман Егор Пушкарев. К таким проблемам относились: укрепление Челябинска, ремонт артиллерии и создание для пушек лафетов, организация постоянного дежурства караулов для обеспечения порядка, комплектование гарнизона Челябинска (в том числе башкирами). В конце марта 1774 г.
Туманов лично отправился в Миасскую и Ет-кульскую крепости для набора новых людей в войска Пугачева. Посланцы атамана также собирали продовольствие и фураж в окрестных селениях. Помимо этого, устраивались казни чиновников и офицеров. С помощью военной силы новый глава Исетской провинции пытался пресекать конфликты русских с башкирами, посылая отряд хорунжего Федора Максимова для усмирения населения [21, с. 104–105].
Падению власти пугачевцев в Челябинске способствовали эффективные действия военных частей под умелым командованием секунд-майора Д. А. Гагрина. В итоге 10 апреля 1774 г. правительственные войска, несмотря на превосходящую численность повстанцев (около 5 тыс. человек и 20 пушек), заняли город. Опытный Га-грин сумел, бросив егерей, захватить господствующую высоту и с помощью артиллерийского обстрела нанести значительный урон пугачевцам. Войска повстанцев во главе с Тумановым отступили в западном направлении [21, с. 106–107].
Историй, подобных челябинской, в период пугачевщины было несколько. Можно, например, упомянуть Яицкий и Илецкий городки, крепость Рассыпную, когда казаки массово переходили в лагерь пугачевцев.
Выводы
Итак, история об активном участии оренбургских казаков в Пугачевском восстании (1773–1775), с одной стороны, подтверждается такими источниками, как делопроизводственная документация, принадлежащая российским властям и военному командованию, а также сторонникам Е. И. Пугачева. С другой стороны, об этом говорят некоторые произведения казачьего фольклора в форме преданий и песен, где представлены образы Пугачева, его сторонников и противников. Один из эпизодов восстания – история борьбы за Челябинск как центр Исетской провинции, безусловно, демонстрирует значительную активность казаков, выступивших на стороне пугачевцев. После захвата города в течение двух месяцев новая пугачевская власть была построена по традиционным для казаков лекалам – воевода и наказной атаман в одном лице, которому подчиняются станичные атаманы. Военные чины пугачевских командиров (полковник, есаул и хорунжий) по своим наименованиям оставались казачьими. В связи с этим утверждения некоторых дореволюционных авторов, историков Оренбургского казачьего войска, о незначительном участии оренбургских казаков в пугачевщине, можно считать несостоятельными и неубедительными. При этом, конечно, стоит учитывать, что на историков, конструирующих в разное время исторические знания, влияли и научные стандарты, и фактический материал о прошлом, с которым они работали, и личный интеллекту- альный опыт, и окружающая общественно-политическая обстановка.
Исследование выполнено при поддержке РНФ, проект № 22-28-20154.
Список литературы К вопросу об участии оренбургских казаков в пугачевском восстании: историография и фольклор
- Certeau, M. de. L’ecriture de l’Histoire / M. de Certeau. – Paris: Gallimard, 1975. – 358 p.
- Кукарцева, М. А. Исследования по философии истории, политики, безопасности: в 3 т. Т. 1: Философия истории и историческая наука / М. А. Кукарцева. – М.: Дашков и К, 2018. – 256 c.
- Ассман, Я. Культурная память. Письмо, память и политическая идентичность в высоких культурах древности / Я. Ассман. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.
- Оренбургская Пушкинская Энциклопедия / авт.-сост. Р. В. Овчинников, Л. Н. Большаков. – Оренбург: Димур, 1997. – 520 с.
- Пушкин, А. С. История Пугачева / А. С. Пушкин // Собрание сочинений: в 10 т. Т. 7. – М.: Художественная литература, 1976. – С. 5–122.
- Авдеев, П. И. Историческая записка об Оренбургском казачьем войске / П. И. Авдеев [1873]. – Оренбург: Оренбург. казачье войско, 1904. – 182 с.
- Стариков, Ф. М. Историко-статистический очерк Оренбургского казачьего войска с приложением статьи о домашнем быте оренбургских казаков, рисунков со знаменем и карты / Ф. М. Стариков. – Оренбург: Типография Б. Бреслина, 1891. – 249 с.
- Рознер, И. Г. Казачество в Крестьянской войне 1773–1775 гг. / И. Г. Рознер – Львов: Изд-во Львовского ун-та, 1966. – 198 с.
- Машин, М. Д. Участие оренбургских каза-ков в Крестьянской войне 1773–1775 гг. под пред-водительством Е. И. Пугачева / М. Д. Машин // Народы в Крестьянской войне 1773–1775 гг. ; под ред. В. И. Буганова. – Уфа: Баш. филиал АН СССР, 1977. – С. 106–111.
- Песни и сказания о Разине и Пугачеве / под ред. А. Н. Лозановой. – М.: Academia, 1935. – 418 с.
- Короленко, В. Г. Пугачевская легенда на Урале / В. Г. Короленко // Избранные произведения. – М.: Гос. изд-во худ. литературы, 1947. – С. 535–544.
- Железнов, И. И. Предания о Пугачеве / И. И. Железнов // Уральцы. Очерки быта ураль-ских казаков: в 3 т. Т. 3. – СПб.: Общественная польза, 1910. – С. 135–222.
- Соколова, В. К. Русские исторические предания / В. К. Соколова. – М.: Наука, 1970. – 287 с.
- Предания и сказки Оренбургских степей / сост. П. Завьяловский ; под ред. В. Седельнико-ва. – Чкалов: Чкаловское изд-во, 1948. – 162 с.
- Любовь казака, или Погибель Емельки Пугачева. – М.: Типография П. Глушкова, 1863. – 36 с.
- Пистоленко, В. И. Сказание о сотнике Ти-мофее Подурове / В. И. Пистоленко. – М.: Совет-ская Россия, 1974. – 416 с.
- Дубровин, Н. Ф. Пугачев и его сообщники. Эпизод из истории царствования Императрицы Екатерины II. 1773—1774 гг. По неизданным материалам: в 3 т. Т. 2. / Н. Ф. Дубровин. – СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1884. – 412 с.
- Дмитриев-Мамонов, А. И. Пугачевщина в Сибири. Очерк по документам экспедиции генерала Деколонга / А. И. Дмитриев-Мамонов. – М.: Университетская типография, 1898. – 152 с.
- Дмитриев-Мамонов, А. И. Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири. Исторический очерк по официальным документам / А. И. Дмитриев-Мамонов. – СПб.: Типография Монтвида, 1907. – 256 с.
- Берс, А. Пугачевщина на Урале / А. Берс. – Екатеринбург: Уралкнига, 1924. – 48 с.
- Лимонов, Ю. Иван Грязнов и Григорий Туманов / Ю. А. Лимонов, В. В. Мавродин, В. М. Панеях // Пугачев и его сподвижники. – Л.: Наука, 1966. – С. 91–109.
- Самигулов, Г. Х. Челябинск во время Пу-гачевского бунта / Г. Х. Самигулов // Гороховские чтения: материалы второй региональной музейной конференции. – Челябинск: Челябинский обл. краевед. музей, 2011. – С. 8–17.
- Самигулов, Г. Х. Из истории Челябинска: в 3 кн. Кн. 1. Крепость и провинциальный город с 1736 по 1781 год / Г. Х. Самигулов. – Челябинск: Каменный пояс, 2015. – 140 с.
- Скориков, А. И. Туманов Григорий / А. И. Скориков // Челябинск: энциклопедия ; сост. В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Челябинск: Каменный пояс, 2001. – С. 856.