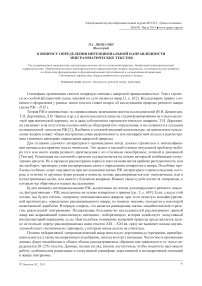К вопросу определения интенциональной направленности эпиграмматических текстов
Автор: Пищулин Петр Сергеевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Специфика организации текстов различной стилевой и жанровой принадлежности
Статья в выпуске: 5 (39), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается зависимость организации текста от его жанровой природы, диктующей интенциональную направленность. Определяются виды интенциональной направленности жанра эпиграммы, всесторонне рассмотрены особенности формирования и функционирования дерогативной и мелиоративной интенций. Уточняется определение эпиграмматического речевого жанра.
Текст, эпиграмма, речевой жанр, интенция
Короткий адрес: https://sciup.org/14822299
IDR: 14822299
Текст научной статьи К вопросу определения интенциональной направленности эпиграмматических текстов
Теория РЖ в лингвистике, по справедливым замечаниям многих исследователей (В.В. Дементьев, Т.Н. Дорожкина, Л.В. Чернец и др.), в целом находится лишь на стадии формирования не только целостной прагматической картины, но и даже собственного терминологического аппарата. Т.Н. Дорожкина указывает и на отсутствие сколько-нибудь общепринятого определения, и на сложности в создании полиаспектной типологии РЖ [2]. Вдобавок к сложной внешней конъюнктуре, на приемлемое осмысление жанров влияет общая внутрисмысловая разрозненность или некорректный подход к рассмотрению типичных критериев определения жанровой природы.
Для создания удачного литературного произведения автор должен стремиться к интенсификации процесса восприятия текста читателем. Это делает в высшей степени актуальной проблему выбора того или иного жанра речевого произведения с его стилевым своеобразием, логикой и динамикой [Там же]. Реализация же основной стратегии осуществляется на основе авторской комбинации элоку-тивных средств. Но в процессе рассмотрения корпуса текстов выявляется крайняя расплывчатость или же наоборот, чрезмерно узкая интерпретация самого определения конкретного жанра. Подобные проблемы особенно остро ощущаются при исследовании малых РЖ литературного происхождения, которые, в отличие от крупных форм романа и повести, подчас рассматриваются или эпизодически, или в иллюстративных целях, или вместе с близкими жанрами. Именно такая судьба постигла эпиграммы, к которым мы обратимся в нашем исследовании.
Будем называть интенциональными РЖ, выделенные на основе доминирующего речевого замысла, фигуративными – РЖ, выделенные на основе конкретного приема [ср.: 5, с. 639]. Если, следуя этой логике, мы будем считать эпиграмму интенциональным жанром, при этом зачастую монофигуратив-ной архитектуры, определение рассматриваемого жанра, по нашему мнению, нуждается в некоторой качественной доработке. В первую очередь, это касается расширения тактик эпидейктической стратегии, реализуемой эпиграммами. Подавляющее большинство исследователей рассматривают данный жанр как выражающий единственную интенцию– пейоративную, которая задействует элокутивный инструментарий порицания, хулы. Нам подобное понимание жанровой природы представляется далеко не полным: корпус рассматриваемых нами текстов XIX – XXI вв. сразу же выявляет весьма внушительный пласт «нетипичных» примеров, с которым никак нельзя не считаться.
Помимо пейоративной эпиграмматический жанр использует дерогативную (презрение, пренебрежительность), а также мелиоративную (одобрение, иногда восторг) интенции. Частотность проявления данных форм эпидейктики в общем объеме рассматриваемых образцов вне зависимости от эпохи определяется 20–25% текстов. Данные, на наш взгляд, вполне достаточные, чтобы посвятить настоящую работу особенностям реализации и элокутивной специфике дерогативной и мелиоративной интенций в жанре эпиграммы.
Дерогативная интенция в эпиграмматических текстах используется в пределах той же макроинтенции, что и пейоративная – «направленность на конфликт, дистанцирование» [7, с. 54]. Однако пейо-ратив является обвинением, порицанием пороков адресата текста, а дерогатив достигает свои комму-никативно-прагматичские цели через акцент на пренебрежение, презрение, выводя читателя в область восприятия объекта эпиграммы через призму эстетики безобразного.
По типу выражения интенции подразделим тексты на элокутивно прямые , в которых дерогатив-ность выражается явными номинативными средствами, и элокутивно косвенные , где имеет место языковая игра, двусмысленность, нацеленность на интермедиальное (см. Плетт [Plett, 1991, р. 16]) понимание.
На поэта С.С. Наровчатова Ю.А. Лопусов пишет эпиграмму со сниженной лексикой: «Поэтом был, вино лакая . / Стал трезв – / ни строчки для веков. / Да, Муза русская такая – / Не любит трезвых мужиков» (здесь и далее выделение полужирным начертанием и курсив наши – П.П.). В данном случае нельзя говорить о порицании порока, перед нами скорее иронично-пренебрежительное «философское» рассуждение.
Излюбленным композиционным приемом элокутивно прямой эпиграммы является пуант (термин, активно применяемый М.Л. Гаспаровым, О.И. Осаволюк, П.Лораном, А. Монтандоном и др.) или pointedending (термин К.М. Холум [Holum, 2009, р. 22]), представляющий собой противоположную экспозиции краткую заключительную колкость. А.С. Пушкин дает колкую характеристику актрисы А.М. Колосовой, прибегая к градации при создании пуанта: « Все пленяет нас в Эсфири: / Упоительная речь, / Поступь важная в порфире, / Кудри черные до плеч, / Голос нежный, взор любови, / Набеленная рука, / Размалеванные брови / И огромная нога!». Две последние строки как бы меняют интонацию экспозиции, сниженная лексика («размалеванные брови») и гиперболизация («огромная нога») создают сатирический и вместе с тем абьюзивный дерогатив ad personem [ср.: 5, с. 237].
Иногда автор текста акцентирует внимание на прямой номинации с помощью дерогативного окказионализма: «Среди элитных теле-кущ / Всеяден и непривередлив, / Как таракан он вездесущ / И столь же всюду надоедлив » (И. Кулев, «“Вездесущий таракан” (на известного телеведущего Ивана Урганта)»). Интенция презрения выражается авторским эпитетом «всюду надоедлив», образованным аналогично заголовочному эпитету «вездесущий», а номинация «таракан» направлена на создание отвращающего образа.
Косвенная элокуция для выражения дерогативной интенции также нередко встречается в эпиграмматических текстах. Фигура дилогии достигает дерогативного эффекта в эпиграмме Б.Л. Брайнина на Б.И. Немцова: «Еще вчера волгарь-бурлак, / Сегодня ‒ в окруженье ближнем. / Сменил пиджак на модный фрак, / А мог бы ведь остаться в Нижнем ». Здесь отчетливо наблюдается каламбур с топонимом происхождения известного политика (Нижний Новгород) и интимным намеком на нижнее белье (как продолжение тематики повествовательной линии: «сменил пиджак на модный фрак»).
В корпусе рассматриваемых нами текстов встречается конвергенция нескольких приемов. Ю.А. Лопусов посвятил эпиграмму поэтессе Б. Ахмадуллиной: «<…> / Она прошла сквозь жизнь на цыпочках, / Дыша духами и… вином ». Основная функция парафразированной аллюзии в данном тексте: намек на широко известные строки А. Блока с их сознательным изменением, создающим дискурс дерогативной направленности (через отрицательную трактовку семы «вино») как характеристики личности, которой посвящена эпиграмма.
Если дерогативную интенцию можно условно считать входящей в существующие определения жанра эпиграммы, то регулярное нахождение мелиоративных языковых средств, за редким исключением [4, с. 30], ускользает от исследователей или рассматривается ими как малозначительное. Между тем, учет положительно ориентированных или даже хвалебных приемов значительно расширяет функциональные способности текстов рассматриваемого нами РЖ, и, вместе с тем, сближает их с одами, мадригалами, эпитафиями.
Некоторые исследователи считают, что в настоящее время положительная оценка передается более скупыми средствами [3, с. 8], нежели отрицательная. Данный подход представляется сомнитель- ным, так как многие пейоративные по своему назначению элокутивные средства выполняют в конкретном тексте функции, расходящиеся с основной, с целью выражения которой создавалась та или иная речевая фигура. Любая интенция представляет собой функциональный класс, а общая функция вполне может объединять весьма разнородные прямые и косвенные выразительные средства: «…ме-лиоративность не приравнивается ни к языковой категории положительной оценки, ни к правильности речи. Она может проявляться и <…>в метафоризации арготических номинаций, в языковой игре <…>, если данная лексика направлена на гармонизацию и синхронизацию когнитивных и речеповеденческих пространств взаимодействующих субъектов» [1, с. 11].
Сказанное выше проиллюстрируем эпиграммой В.И. Гафта Р. Быкову: « Ему бы в сборную по баскетболу. / Какой-то черт сидит в нем, бес. / Всего лишь два вершка от пола, / Но звезды достает с небес». Дерогатив на приеме парафраза («два вершка» от пола, а не «от горшка») в конкретно-вне-шностной характеристике адресата и мелиоративный фразеологизм (последняя строка) в сочетании с дисфемичной лексикой второй строки создают сложную амбивалентную экспрессию, благодаря которой эпиграмма изящно раскрывается в своем сатирическом звучании, в том числе и потому, что не может быть осмыслена однозначно, хотя в целом положительная оценка иррадиируется после прочтения на весь текст.
Н.В. Коробова предлагает подразделение мелиоративов с учетом соотношения эмоциональных и оценочных сем в структуре интенции на лаудативы (позитивные рациональные оценки), аффек-ционаты (позитивные эмоциональные трансляторы любви и нежности) и респективы (сбалансированные эмоционально-рациональные положительные характеристики) [3, с. 8]. Данная классификация представляется важной для более детального анализа мелиоративных средств. В произведениях эпиграмматического жанра нами выявлена в основном респективная мелиоративность, что связано с прагмацентризмом (предполагающим обязательную рациональную составляющую, причину написания эпиграммы) с одной стороны и максимальной элокутивной концентрацией (диктующей отбор самого острого выразительного средства) с другой стороны. При этом в респективности всегда существует уклон либо к эмоциональной, либо к рациональной стороне оценки.
У В.И. Гафта респективная мелиоративность всегда насыщена семами-аффекционатами: «Ты так велик и так правдив / <…> / Ты просто наш Советский гений !» (эпиграмма В. С. Высоцкому). Н.Н. Ургант также посвящена похвальная эпиграмма: «Любить тебя должны за то: / За «Белорусский твой вокзал» / За песню лучшую в кино! / Я потрясен! Я все сказал!» . Прямая номинация (если не предполагать здесь наличия антифразиса) в этом случае оперирует последовательностью респективов «любить тебя должны» – «лучшую» – «потрясен», составляющих семантическое ядро эпиграммы, а обилие восклицательных интонаций, свойственное скорее одической патетике, склоняет оценку в сторону большей эмоциональности.
Мастерство владения прямыми мелиоративными средствами демонстрирует А.С. Пушкин. В эпиграмме «К.А. Б***» саркастическое замечание «…Подумать не успев, скажу: ты всех милей…» создает подходящую напряженную атмосферу для последующего приема обманутого ожидания: «…По-думав, я скажу все то же» . Эта строка подтверждает обозначенный выше комплимент. Представленный текст обнаруживает совпадение функций жанра мадригала и эпиграммы при явном расхождении подходов к реализации.
В тексте «Моя эпитафия» 1815 г. А.С. Пушкин иронизирует над собственным образом жизни, однако, следуя одновременно закону представленного в заглавии жанра и замыслу (интенции), дает себе положительную оценку: «Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою, / С любовью, леностью провел веселый век, / Не делал доброго, однако ж был душою, / Ей-богу, добрый человек» . К жанру эпитафии настоящий пример не имеет отношения, так как создавался без практической цели, в совсем юном возрасте, а мелиоративность скорее связана с подростковой рефлексией.
Элокутивно косвенные средства положительной оценки также изобилуют в эпиграмматических текстах, формируя и, вместе с тем, насыщая, усложняя их. В тексте на К. Лаврова В.И. Гафт использу- ет деривационно-этимологический каламбур: «Твоя фамилия Лавров, / Я лавры дать тебе готов…». Постижение семантической мотивированности представляет собой игру на внутренней форме фамилии, соединенную с деривационными ассоциациями («Лавров» ~ «лавры»).
Успех исследования проблем и составление категориальных типологий текстов взаимосвязаны с интенсивным изучением теории жанров, для которых текстовый материал «создает речевую основу» [5, с. 634]. В свою очередь, наиболее емкая жанровая типология станет возможна лишь тогда, когда будут в полной мере раскрыты внутренние правила и функционально-прагматические характеристики каждого конкретного жанра. В нашем исследовании мы постарались рассмотреть малоизученный вопрос об интенциональной направленности эпиграмм, а в качестве вывода предлагаем собственное откорректированное определение данного РЖ. Эпиграмма – это краткий стихотворный элокутивно интенциональный жанр, с реализуемыми эпидейктическими стратегиями пейоративного, дерогативного и мелиоративного типов; реализация каждой стратегии осуществляется на основе авторской комбинации элокутивных средств, которые в зависимости от контекста обладают полифункциональностью. Расширение определения жанра функционально роднит его с некоторыми другими жанрами (одой, эпитафией, мадригалом и пр.).
Список литературы К вопросу определения интенциональной направленности эпиграмматических текстов
- Волошина М. В. Функционально-прагматические характеристики категории мелиоративности в современном французском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 2010.
- Дорожкина Т. Н. Речевой жанр в лингвистическом и риторическом аспектах//Международная интернет-конференция «Лингвистический семинар -2008», посвященная 80-летию чл.-корр. АН Республики Башкортостан проф. Т.М. Гарипова. Уфа, 2008. URL: www.rusoil.net/pages/3411/dorozkin.doc.
- Коробова Н. В. Мелиоративные коммуникативные стратегии современной английской речи (на материале британского ареала): автореф. дис. … канд. филол. наук. Нижний Новгород, 2007.
- Леонов И. С. Поэтика русской эпиграммы XVIII -начала XIX века: дис. … канд. филол. наук. М., 2006.
- Москвин В. П. Выразительные средства современной русской речи. Тропы и фигуры: Терминологический словарь. Ростов н/Д, Феникс, 2007.
- Москвин В. П. Аргументативная риторика: теорет. курс для филологов. 2-е изд., перераб. и доп. Ростов н/Д: Феникс, 2008.
- Ружникова О.М. Актуализация высказываний согласия в диалогическом дискурсе (на материале современного английского языка): дис. … канд. филол. наук. Архангельск, 2004.
- Holum K. M. The epigram: semantic basis for the pointed ending. Linguistics. 1972 (2009). URL: http://www.degruyter.com/view/j/ling.1972. 10.issue-94/ling.1972.10.94.21/ling.972. 0.94. 21.xml?format=INT.
- Plett H. Intertextuality. Berlin & New York: Walter de Greiter, 1991.