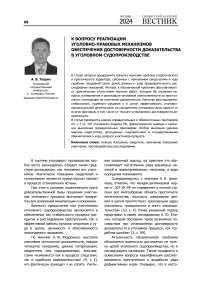К вопросу реализации уголовно-правовых механизмов обеспечения достоверности доказательства в уголовном судопроизводстве
Автор: Тещин А.В.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Юриспруденция
Статья в выпуске: 1 (49), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье автором предпринята попытка изучения проблем теоретического и практического характера, связанных с изменением свидетелями в ходе судебных заседаний своих ранее данных в ходе предварительного расследования показаний. Интерес к обозначенной проблеме обусловливается практическим отсутствием научных работ, которые бы отражали вопросы установления и реализации уголовной ответственности за преступления, посягающие на получение доказательств. Качество расследования, стабильность судебного решения и в целом эффективность уголовнопроцессуальной деятельности по конкретному уголовному делу зависят от многих факторов, в том числе от точного установления достоверности доказательств. В статье проводится анализ оправдательных и обвинительных приговоров по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса РФ, формулируются выводы о причинах вынесения оправдательных приговоров. Особое внимание уделено анализу недостатков, допущенных следователями и государственными обвинителями в ходе допроса участников процесса.
Ложные показания, свидетель, изменение показаний, умолчание, противодействие расследованию
Короткий адрес: https://sciup.org/14133099
IDR: 14133099
Текст научной статьи К вопросу реализации уголовно-правовых механизмов обеспечения достоверности доказательства в уголовном судопроизводстве
В системе уголовного производства особое место законодатель отводит таким средствам доказывания, как показания его участников. Фактически показания свидетелей и потерпевших являются краеугольным камнем в процессе установления истины.
При этом в условиях ограниченного круга доказательственной базы показания участников уголовного процесса выступают предметом для возможной манипуляции и искажения.
Важность преодоления лжи участниками уголовного судопроизводства заключается в обеспечении как стабильности процесса раскрытия и расследования преступлений, так и эффективной работы органов следствия и суда в целом, законности и обоснованности назначаемого наказания.
По мнению А. Ю. Федоренко, выступая ключевым источником доказательств, каждое четвертое показание, данное потерпевшим, свидетелем или подозреваемым, впоследствии «изменяется как в процессе следствия, так и судебного разбирательства» [9, с. 3], что фактически приводит к их утрате. Учиты- вая указанный подход, на практике это обусловливает наступление ряда кризисных явлений в правоприменении, например, в виде осуждения невиновного.
Солидаризируясь с мнением К. В. Цепелева, отметим, что междисциплинарная норма ст. 307 УК РФ не определяет в полной степени всё многообразие объекта преступного посягательства, поскольку совершение деяния в целом препятствует «реализации задач уголовного, гражданского и иного законодательства» [10, с. 4]. Ранее указанный подход представил в своем исследовании А. Ю. Епи-хин, который обозначил такое возможное последствие при установлении достоверности доказательств в уголовном процессе, как «судебная ошибка» [2, с. 89].
Актуальность обозначенной проблемы объясняется важностью достижения не только целей уголовного судопроизводства, но и последующего наказания. Также нуждаются в осмыслении вопросы квалификации рассматриваемого преступления и выработки ряда дефинитивных норм. Очевидно, что в насто- ящее время отечественный законодатель не уделяет должного внимания регламентации отдельных положений рассматриваемой уголовно-правовой нормы. Можно предположить, что во многом это объясняется ее межотраслевым характером.
Анализ уголовного и уголовно-процессуального законодательства подтверждает тезис об отсутствии легального закрепления таких терминов, как ложные и заведомо ложные показания, что обусловливает необходимость обращения к теоретическим подходам правоведов в раскрытии рассматриваемых понятий.
Сущностное содержание заведомо ложных показаний заключается в их фактическом несоответствии обстоятельствам действительности. При этом важно уточнить, что речь идет о фактах, подлежащих установлению по расследуемому делу, которые «дезинформируют» судебные органы и следствие [12, с. 7]. Некоторые правоведы отмечают такую характеристику указанных показаний, как имеющие «существенное значение» [4, с. 37].
Рассмотрим материалы судебной практики.
В 2020 году Игринским районным судом Удмуртской Республики вынесен обвинительный приговор в отношении З.У.Я. по ч. 1. ст. 307 УК РФ. Основанием для вынесения указанного обвинительного приговора явились следующие обстоятельства.
Свидетель З.У.Я. на предварительном следствии и в судебном заседании заявила, что не подсудимый, а она причинила потерпевшему тяжкий вред здоровью. Ложные показания свидетеля были занесены в протокол судебного заседания. Было установлено, что женщина ввела суд в заблуждение, препятствуя установлению истины по уголовному делу, желая непривлечения своего знакомого к уголовной ответственности [7].
В уголовно-правовой науке характеристика объективной стороны является вопросом дискуссионным. Искажение истинных обстоятельств в рассмотренном примере реализуется путем действия. Указанный подход поддерживается большинством ученых. Но ряд исследователей, а таковых меньшинство, полагают, что деяние может реализовываться путем умолчания, т. е. бездействия в тех случаях, когда участники уголовного процесса заявляют, например, что «не видели» или
«не слышали» [11, с. 51]. Тем не менее представляется, что подобное умолчание целесообразно квалифицировать как форму отказа от дачи показаний.
Дела указанной категории преимущественно рассматриваются без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением. В указанных случаях суду остается просто констатировать, что ранее в ходе предварительного расследования осужденные дали иные показания.
При этом обращает на себя внимание тот факт, что в основном приговоре, то есть по делу, в ходе разбирательства которого были даны ложные показания, суд не признает буквально данные показания ложными, а подчеркивает, что относится к ним критически.
Зачастую поводом для проверки в порядке ст. 144—145 Уголовно-процессуального кодекса (далее — УПК РФ) и последующего возбуждения уголовного дела является информация, поступившая из прокуратуры в следственные органы. Государственный обвинитель указывает на обстоятельства дачи ложных показаний в судебном заседании. Далее регистрируется сообщение о преступлении, направляется запрос в суд на получение приговора с отметкой о вступлении в законную силу и протокола судебного заседания, а также копии ряда протоколов из «основного» дела и возбуждается уголовное дело. Правоприменительная практика свидетельствует, что зачастую фигурант признает вину в даче заведомо ложных показаний, после чего выражает согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке.
Однако следует отграничивать умолчание от отказа от дачи показаний. Во втором случае очевидно, что лицо непосредственно сообщает «о своем нежелании сотрудничать с органами предварительного расследования» [5, с. 67].
При этом также судебная практика указывает на назначение судами наказания в виде штрафа, причем его размер определяется нормами Общей части уголовного закона ввиду отсутствия установления нижнего предела в санкции нормы. Как указывает Е. И. Замылин, оно является «символическим» [3, с. 117]. Санкция нормы действующего уголовного законодательства, в отличие от советского, не предусматривает наказание в виде лишения свободы, что определяет невозможность реализации наиболее репрессивных мер воздействия.
Следует также отметить и декларативность уголовной ответственности в рассматриваемых случаях, так как добровольность заявления о ложности показания является основанием для освобождения от таковой. Представляется, что данная норма, предоставляющая своего рода правовой иммунитет, не является удачной. Некоторые исследователи занимают более категоричную позицию, согласно которой положения примечания противоречат общеуголовным принципам, таким как справедливость и гуманность [8, с. 265].
Проведенный анализ судебной практики демонстрирует наличие оправдательных приговоров по рассмотрению дел данной категории.
Так, в 2020 году Княжпогостским районным судом Республики Коми С. А. был оправдан по ст. 307 УК РФ при следующих обстоятельствах. В 2019 году в отношении ФИО1 было возбуждено уголовное дело по факту дезорганизации деятельности исправительных учреждений. В ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля С. А. заявил, что наблюдал, как сотрудники республиканской исправительной колонии потребовали от осужденного ФИО1 пройти вместе с ними на дисциплинарную комиссию, на что последний ответил категорическим отказом.
Во время судебного заседания свидетель сообщил суду, что ему неизвестны обстоятельства произошедшего, в частности, указав, что удаленность от места произошедшего не позволила ему точно слышать слова участников. Но ранее ему стало известно о проведении заседания указанной комиссии, и он предположил, что осужденный должен принять в ней участие.
При оценке его показаний суд основывался в своих выводах на показаниях, данных свидетелем в ходе предварительного следствия. По мнению суда, они также согласовывались с иными доказательствами.
При ответе на вопрос государственного обвинителя словами «Я это не слышал и не говорил этого» С. А. указал на то обстоятельство, что не говорил следователю о том, что лично слышал слова сотрудников и ФИО1.
Это подтверждалось тем, что свидетелю не были известны должности и фамилии сотрудников исправительного учреждения. Суд пришел к выводу, что неверных данных свидетель не сообщил, а следовательно, не оказал влияние на установление виновности ФИО1.
Суд признал показания свидетеля С. А. недостоверными, однако не соответствующими действительности они не признаны. Таким образом, показания С. А. на предварительном следствии в более полной мере согласовались с показаниями потерпевшего и свидетелей, в связи с чем и были приняты судом в основу приговора [1].
В приговоре Новоспасского районного суда Ульяновской области, анализируя показания свидетеля П., суд нашел более правдивыми его показания, данные на предварительном следствии.
Подобная оценка показаний свидетеля с точки зрения достоверности, данная судом, не может свидетельствовать о виновности П. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ, так как выводов о заведомой ложности показаний свидетеля П., противоречии данных им показаний фактическим обстоятельствам, установленным в ходе судебного следствия, во вступившем в законную силу приговоре не имеется.
Показания допрошенного в судебном заседании свидетеля — старшего следователя АИА также не содержат конкретных подтверждений виновности П. в инкриминированном ему преступлении. При допросе П. в качестве свидетеля в суде АИА не присутствовал [6].
Подводя некоторые итоги, отметим, что суды при вынесении приговора, отклоняя те или иные показания лиц, допрошенных в ходе судебного заседания, прибегают к корректным формулировкам, не приводя фразу, что суд признает данные показания ложными, а, например, указывая, что «суд относится к показаниям, данным в суде, критически».
Не всегда в случаях, когда свидетель дал в суде показания, отличные от показаний, данных в ходе предварительного расследования, это будет образовывать состав дачи ложных показаний. Общественная опасность деяния заключается в том, что оно препятствует установлению истины, впоследствии приводя к постановлению неправосудных решений. Это обусловливает необходимость сотрудников следственных органов тщательно анализировать суть сказанного свидетелем, определять, имели ли его показания вообще доказательственный смысл для рассмотрения дела, насколько значимыми они являлись, а также стремиться качественно провести первичный допрос. Если изменение показаний свидетелем не коснулось обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, то, исходя из складывающейся судебной практики, в действиях лица, изменившего показания, не будет состава дачи ложных показаний.
Отметим, что от качества работы государственного обвинителя также зависит наличие в действиях допрашиваемого лица изучаемого состава преступления. Необходимо четко выяснять, в связи с чем произошло изменение показаний, влияет ли это на принятие решения судом.
Соблюдение указанных в выводах положений позволит не только избежать незаконного привлечения к уголовной ответственности невиновных, но и не позволит избежать уголовной ответственности лиц, ложь которых была направлена на то, чтобы помочь избежать привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении преступления.