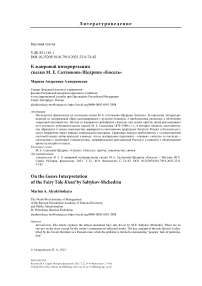К жанровой интерпретации сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Кисель»
Автор: Алякринская М.А.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Исследуется практически не изученная сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина «Кисель». В советском литературоведении ее центральный образ ассоциировался с русским мужиком, а проблематика сводилась к обличению «народной пассивности». Исходя из жанрового своеобразия «Киселя» как сказки-притчи, автор рассматривает ее в контексте публицистических циклов М. Е. Салтыкова 1870-1880-х гг., в которых писатель систематически обращался к темам хищничества, варварского уничтожения природных богатств России и бессилия русского дворянства перед новыми социальными вызовами. Сравнивая данную проблематику с художественной системой сказки, автор приходит к выводу, что ее центральные персонажи - «свинья», «кисель» и «господа» - соотносимы с понятиями «хищничества», патриархальной крестьянской России и уходящего с общественной арены культурного класса.
М. е. салтыков-щедрин, «сказки», «кисель», притча, хищничество, свинья
Короткий адрес: https://sciup.org/147242443
IDR: 147242443 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-9-74-82
Текст научной статьи К жанровой интерпретации сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Кисель»
«Сказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина – одно из наиболее изученных сочинений писателя. Однако, несмотря на большое количество работ и достаточно полные комментарии к этому циклу, многие тексты в нем до сих пор с трудом поддаются истолкованию. Такова самая маленькая по объему сказка «Кисель», написанная в январе-феврале 1885 г. Генезис этой сказки-миниатюры, по предположению С. А. Макашина, связан с пословицей «мужик простой – кисель густой»; ее основная проблематика сводится к обличению «народной пассивности» [Макашин, 1989, с. 374]. В. Н. Баскаков пишет, что в сказке, с одной стороны, «высмеивается крестьянская <…> податливость по отношению к социально-экономическому угнетению», а с другой – «говорится о печальных результатах вековой эксплуатации крестьян со стороны помещиков, а также и российских капиталистов, персонифицированных в образе “свиней”» [Баскаков, 1974, с. 469].
Заметим, что данная интерпретация, основанная на аллегории «мужик –кисель», не вполне согласуется с художественным целым сказки, в частности делает непонятным финал, в котором от киселя остались лишь «одни засохшие поскребушки» [Салтыков-Щедрин, 1974, т. 16, кн. 1. с. 177] 1. М. Е. Салтыков вряд ли мог предсказывать подобную судьбу русскому мужику, тем более что одновременно с «Киселем» опубликована сказка «Коняга» – «лирический монолог автора, исполненный беззаветной любви к народу…» [Баскаков, 1974, с. 468].
В комментариях к изданию «Сказок» в серии «Литературные памятники» приведена цитата [Баскаков, Бушмин, 1988, с. 267] из письма М. Е. Салтыкова В. М. Соболевскому – редактору «Русских ведомостей», в котором сатирик, высказывая свое мнение по поводу статьи Г. И. Успенского, использовал образы «Киселя»: «Успенского статью читал у Вас в газете и, признаться, нашел ее несколько необдуманною. Плохой он публицист, да и мыслитель не вполне исправный. <…> Верит в чудотворную силу крестьянского банка и радуется заведению 5 переселенческих станционных пунктов с 40-тысячным бюджетом на несколько сот тысяч переселенцев. <…>. А вот, когда окажется, что земля, купленная под влиянием увлечения, не дает столько выгод, чтоб покрыть ежегодные платежи, и когда, вследствие, начнутся продажи – тогда и окажется, что такое русский кисель. Способен ли он выработать из себя бланманже, или так навсегда и останется киселем» (т. 20, с. 173).
При попытке объяснить мысль писателя посредством аллегории «мужик - кисель» получается, что речь в цитируемом фрагменте идет чуть ли не о революции: пробудится ли самосознание народа («выработает из себя бланманже») или не пробудится (и останется «киселем»). Представляется, что такое толкование невозможно, уже хотя бы потому, что подобные соображения М. Е. Салтыкову было бы странно высказывать в диалоге с В. М. Соболевским, западником-гуманистом, и тем более делать это в контексте письма, значительная часть которого посвящена обсуждению возможной покупки имения сатириком под Москвой. Смысл образов «Киселя» в приведенном отрывке другой, но для понимания этого смысла необходимо обратиться к текстам писателя.
Результаты исследования
Исследователи рассматривают «Кисель» либо как бытовую сказку [Макашин, 1989, с. 374], либо как притчу [Баскаков, 1974, с. 469]. По манере изложения, традиционным сказочным формулам и некоторым сюжетным ходам 2 эта сказка стилизована под народную, но таковой не является, а вот признаки притчи в ней просматриваются отчетливо: сюжет не развернут и иносказателен; высока степень абстрагирования (действие происходит как бы «без декораций» [Аверинцев, 1971, с. 20]); композиция и система персонажей («субъектов этического выбора» [Там же]) сведены к минимуму, элементарны, что обеспечивает «предельную концентрированность» [Тюпа, 2014, с. 36], плотность слова. В качестве основных составляющих текст «Киселя» включает поучительный случай и сентенцию; присутствует и «нарративная интрига», требующая «активизации воспринимающего сознания» и «извлечения адресатом некоего ценностного урока» [Там же, с. 39].
В силу «притчеобразности» текст сказки представляет собой гипердинамичное повествование, легко распадающееся на композиционные части: исходную ситуацию ( Господа сами « объедались » киселем, да и другим на улицу выставляли ); завязку ( Прискучил кисель господам, и они уехали « на теплые воды гулять » , а кисель решили отдать свиньям ); кульминацию ( Свинья засунула « рыло в кисель по самые уши и на весь скотный двор чавкотню подняла. <^> Сытости, подлая, не знает : чуть замешкается кухарка , она уж хрюкает : “ Подливай!” А ежели скажут : “Был кисель, да весь вышел”" , - она и по углам , и по закоулкам , и под навозом мордой вышарит и уж где-нибудь да отыщет » (т. 16, кн. 1, с. 176)); развязку (« Ела да ела свинья и наконец все до капли съела», а господа « гуляли-гуляли, да и догулялись. <...> Приехали они домой, взялись за ложки - смотрят, ан от киселя остались только засохшие поскребушки » (т. 16, кн. 1, с. 177)) и заключительную сентенцию (« И теперь и господа, и свиньи - все в один голос вопиют : “ Ели мы кисель, а про запас не оставили! Чем-то на будущее время сыты будем! Где ты, кисель, ау ?”» (т. 16, кн. 1, с. 177)).
По справедливому утверждению С. А. Макашина, «Сказки» Салтыкова являются своего рода микрокосмом - «малым миром» всего творчества писателя [Макашин, 1989, с. 368]. Поэтому, несомненно, смысл притчи должен дублироваться семантикой других произведений сатирика, особенно 1870-1880-х гг.
Исторический контекст сказки «Кисель» - ситуация в России 1870-1880-х гг., связанная с бурным, неконтролируемым и грабительским развитием капитализма. После реформ 1860-х гг. на поверхность русской жизни вышел дух наживы, на общественной сцене появилась новая сила - буржуазия, складывающаяся из зажиточного крестьянства, купечества, мещанства и даже дворянства, многие представители которого , бросив имения, устремились за «длинным рублем». В циклах Салтыкова этого времени, таких, как «Благонамеренные речи», «Сборник», «Убежище Монрепо», «Круглый год» и других, описывается Россия, погрязшая в жульничестве, аферах, плутовстве - самых разнообразных махинациях, сопряжен- ных с тем, что К. Маркс называл первоначальным накоплением капитала. По словам сатирика, наступило время, когда «выжимание гроша» сменилось «грабежом “отвлеченным”, не сопряженным с оханьями и криками, но дающим в несколько часов рубль на рубль» (т. 11, с. 158); когда мошенничество и воровство приобрели облик благонамеренности, а воровство среди бела дня «усложнилось до того, что сделалось неосязаемым, не допускающим мысли ни о поличном, ни об ответчике» (т. 12, с. 381). М. Е. Салтыков внимательно следил за финансово-экономической составляющей жизни страны, за громкими судебными процессами о расхищениях и мошенничествах – в его очерках фигурируют и дело «червонных валетов», и дело Струсберга, и дело Юханцева 3. В очерке «Дети Москвы» сатирик иронически противопоставил прежнее величие Москвы ее новому «воровскому» обличью; а в очерке «Дворянская хандра» заметил, что русский культурный человек, проходя путь от 1840-х гг. к 1880-м, вместо «храма славы» ненароком «попал в хлев» (т. 12, с. 484).
Образ «хлева» как пространства жизни близок символике «Киселя», в котором свинья – одно из основных действующих лиц, а также ключевых элементов, образующих сюжетную основу сказки. Свинья в сказке выступает в той же функции, что и «господа» – функции по-едателя киселя, но, если господа ели кисель так, что на нем это не отражалось (он «никакого неудобства не чувствовал»); то свинья поглощает кисель варварски – без остатка и надежды на возобновление. «Свиное», хищническое начало в сцене уничтожения киселя подчеркивается всеми средствами поэтики произведения: грубой лексикой («рыло», «под навозом мордой вышарит»); звукоподражательной фонетикой («чавкотню подняла / чавкает да похрюкивает»); экспрессивным синтаксисом («сытости, подлая, не знает!»); реминисценцией формулы волшебной сказки («Покатаюся, поваляюся, господского киселя наевшись!»), напоминающей о ведьме, затаскивающей детей «совсем не на символическое пожирание» [Пропп, 1986, с. 111]. Немаловажно и то, что в кульминационном моменте поедания киселя множественные «свиньи» подменяются одной «свиньей», выступающей здесь уже в качестве символа хищничества – алчности, чревоугодия, прожорливости, наглости и агрессии.
Параллель «свинья – русская буржуазия» указывалась исследователями [Баскаков, 1974, с. 469], и такая параллель, безусловно, имеет место; ее можно увидеть во многих произведениях Салтыкова. В цикле «Убежище Монрепо», рассуждая о русском буржуа, сатирик отметил, что это совсем не тот европейский труженик-профессионал, который завоевал свое место в обществе «трудолюбием и пристальным изучением профессии», а просто «праздный, невежественный и притом ленивейший забулдыга, которому, благодаря слепой случайности, удалось уйти от каторги и затем слопать кишащие вокруг него массы “рохлей”, “ротозеев” и “дураков”» (т. 13, с. 352). Именно потому такой социальный хищник получил у сатирика наименование «чумазый» (тоже, кстати, напоминающее о свинье), и пришел этот чумазый – «с ног до головы наглый, с цепкими руками, с несытой утробой» (т. 13, с. 381) – в Россию совсем не для того, чтобы «новое слово» сказать, а чтобы «с неутолимою алчностью глотать, глотать, глотать...» (т. 16, кн. 2, с. 13).
«Чумазый» не имеет представления ни о каких «словах», ему неизвестны понятия «общество», «правда», «свобода», «отечество», известна только материальная выгода, «грош» (т. 13, с. 383). Салтыков и мысли не допускал, чтобы Деруновы, Колупаевы и Разуваевы могли стать элитой общества, «дирижирующим» классом, он считал, что эти новоявленные «столпы» неспособны ни к общественному, ни к культурному созиданию именно в силу хищнической природы: «Разуваев, заспанный и пахучий, буйный, бесшабашный, безвременно оплывший, с отяжелевшею от винного угара головой и с хмельною улыбкою на устах! Подумайте! да он в ту самую минуту, как вы, публицисты, призываете его: иди и володей нами! – даже в эту торжественную минуту он пущает враскос глаза, высматривая, не лежит ли где плохо?» (т. 13, с. 388)
В природе свинья всеядна: согласно Брэму, она ест всё, «даже падаль, мертвую дичь, человеческие трупы и трупы себе подобных», нередко пожирает собственных чад [Брэм, 1869, с. 44, 54]. Аналогично поступают и новые социальные хищники. У Салтыкова, чрезвычайно чуткого к языку, в «Мелочах жизни» приводится этимология слова «мироед» – это человек, который ест своих «однообщественников» (т. 16, кн. 2, с. 79). Аллегорическое сопоставление новых «столпов» общества с идеей «торжествующего свинства», нацеленного на поедание всего и вся, можно усмотреть и в очерке Салтыкова «Столп», где рассуждения Осипа Дерунова по общему смыслу и агрессивной логике развития напоминают рассуждения Свиньи, «чавкающей» Правду, в цикле «За рубежом».
Что поедает свинья? В ответе на этот вопрос, собственно, и заключается загадка сказки, так как кисель – ключевой и самый сложный ее образ. В сказочном фольклоре фразеологизм «молочные реки, кисельные берега» – знак материального благополучия, в языке – аналог достатка, изобилия [Захаренко, 2006, с. 386]. Кисель как «пища от земли» выступает в знаменитом «Сказании о белгородском киселе» из «Повести временных лет»; в русских пословицах, собранных В. Далем («Киселю да царю всегда место есть» [Даль, 1862, с. 903]); как магическая еда в заговорах: «Мороз, мороз! приходи кисель есть // Мороз, мороз! не бей наш овёс» [Сказания…, 1885, с. 116]). Характерно, что народным сознанием кисель воспринимался как еда, ассоциирующаяся с Россией; врагу киселя не положено («Видел Татарин во сне кисель, да ложки не было; лег спать с ложкой, не видал киселя») [Даль, 1862, с. 33]); при этом кисель – еда скудная, позволяющая лишь не умереть с голоду, и в этом смысле она также репрезентативна для российской крестьянской жизни: «Кисель ноги подъел»; «Кисель да сыта – бабья еда»; «Привел Бог киселем заговеться, так гущу на разговенье поставим» [Там же, с. 903–904].
У Салтыкова понятие «кисель», как представляется, недалеко отходит от фольклорной традиции; это сложный образ-символ, аккумулирующий в себе множество смыслов. Кисель – знак патриархальной России с ее великими природными богатствами и примитивной экономикой, одновременно это обозначение того жизненного минимального достатка, который даже при общей бедности большинства населения так или иначе всегда обеспечивали природные ресурсы страны. Кисель в сказке – что-то исконное, архаичное, это именно крестьянский, «пузырящийся» кисель, а не его европейские «бланманжейные» аналоги с крахмалом, модные во второй половине XIX в.: в поваренной книге 1875 г. для господ рекомендован «белый картофельный кисель, заменяющий бланманже» с миндалем и сливками, а вот овсяный кисель, фигурирующий в сказке Салтыкова, описывается в разделе «Еда для слуг». Интересно, что автор этой поваренной книги всячески преуменьшает достоинства русского киселя перед европейскими желе и бланманже, так, она пишет, что русский повар или кухарка редко сварят кисель удовлетворительно, дадут ему «надлежащую прозрачность, возвышающую его иногда до достоинства желе» [Авдеева, 1875, с. 334].
Литературным автокомментарием к сказке «Кисель» могут служить циклы М. Е. Салтыкова 1870–1880-х гг., в которых рассказывается о том, как хищнически «новым хозяином» разоряется, изничтожается патриархальная Россия. В очерках «Благонамеренных речей», к примеру, многократно повторяется мотив уничтожения дворянских усадеб, божественно прекрасной природы во имя денег - мотив, позже нашедший воплощение в чеховском «Вишневом саде». В очерке «Кандидат в столпы» владелец старого имения (автобиографический герой-повествователь у Салтыкова) размышляет о судьбе сада: «И эти отливающие серебром тополи, и эти благоухающие липы, и эти стройные, до самой верхушки обнаженные от сучьев березы, неслышно помавающие в вышине своими всклоченными, чуть видными вершинами... Еще месяц - и старый чемезовский сад будет представлять собою ровное место, усеянное пеньками и загроможденное полсаженками дров, готовых к отправлению на фабрику» (т. 11, с. 127).
В очерке «Опять в дороге» автор-повествователь едет по местам своего детства - и не узнает их. Когда-то здесь были сплошные «береженые» леса, но теперь «по обеим сторонам дороги лежат необозримые пространства, покрытые пеньками» (т. 11, с. 218). Вообще весь очерк построен на сравнении прошлого с настоящим, причем настоящее представлено апокалиптически - «словно последние времена пришли» (т. 11, с. 218):
|
Прежде |
Теперь |
|
Весна, май: «…В это время скотина была уж сыта в поле, леса стонали птичьим гомоном, воздух был тих, влажен и нагрет. Выйдешь, бывало, на балкон - так и обдает тебя душистым паром распустившейся березы или смолистым запахом сосны и ели» (т. 11, с. 218). |
«Пошли сиверки, холода, бездождица: земля трескается, а пару не дает. Шутка сказать: май в половине, а из полушубков не выходим!» (т. 11, с. 218). |
|
«…Девки венки завивали, и дворянские дети, с букетами пионов, нарциссов и сирени, ходили в троицын день в церковь» (т. 11, с. 219). |
«…Не то что пиона, а и дворянского дитяти по всей окрестности днем с огнем не отыщешь! Теперь семик на дворе, и не то что цветка не сыщешь, а скотина ходит в поле голодом» (т. 11, с. 219). |
|
Усадьба помещика Григория Александровича Гололобова «кипела млеком и медом» (т. 11, с. 219). |
«Ни одного цельного стекла, а в иных местах вместо стекол вмазана синяя сахарная бумага. Нигде -ни плетня, ни изгороди. Бывший перед домом палисадник неведомо куда исчез <...>; бывший “проспект” наполовину вырублен; бывший пруд зарос и покрыт плесенью, а берега изрыты копытами домашних животных; от плодового сада остались две-три полувымерзшие яблони, едва показывающие признаки жизни» (т. 11, с. 219). |
|
Сам Григорий Александрович «белый да румяный» (т. 11, с. 221). |
«…Старик в засаленном стеганом архалуке, из которого местами торчит вата. <_> На голове у него теплый картуз, щеки и губы обвисли, борода не брита, жидкие волосы развеваются по ветру; в левой руке березовая палка, которую он тщетно старается установить» (т. 11, с. 220-221). |
Примеры можно умножать, сравнение «прежде - теперь» в очерке разворачивается, но в силу объема статьи привести весь материал не представляется возможным. Кроме того, похожие ситуации описаны и в других циклах. В «Убежище Монрепо» разоряется имение Ивана Косушкина: купивший его трактирщик «птицу на скотном перерезал, карасей в пруде выловил, скот угнал...»; в дальнейших планах нового владельца «дом распродавать, лес рубить»
и, наконец, пустое место «задешево» продать (т. 13, с. 379). Аналогичное сравнение встречается также в «Письмах к тетеньке»: «Парки вырублены, соловьи улетели, старая Анфиса давно свезена на погост. Ни волнующихся нив, ни синеющих вдали лесов, ни троек с малиновым звоном, ни кучеров в канаусовых рубашках и плисовых безрукавках - ничего нет!» (т. 14, с. 316).
Интересно, что не только Колупаевы и Разуваевы изничтожают мир вокруг себя, т. е. изуверски поедают «кисель»; в «хищничестве» Салтыков обвиняет и администраторов «новой школы», которые с мыслью об управлении государством смешивают понятие о государственном «пироге»: «Мальчики, без году неделю вылезшие из курточек и об том только думающие, как бы урвать, укусить...» (т. 13, с. 417). Не случайно в первой, январской, главе цикла «Круглый год» появляется «провиденцияльная» телеграмма, адресованная молодому «преспособному» коллежскому советнику Феденьке Неугодову: «Vendez Russie, vendez vite», «argent envoyez»/ «Продавай Россию, продавай скорее», «деньги высылай» (т. 13, с. 408).
Итак, кисель - патриархальная Россия с ее природными богатствами; свинья - народившаяся русская буржуазия и сближающиеся с ней по аппетитам новые администраторы, которые используют административный ресурс фактически для того же грабежа страны. Есть в сказке и третья составляющая - господа, тоже в истоках своих сложный образ, восходящий к «культурным людям» в циклах сатирика.
О дворянстве как потерянном сословии идет речь во многих произведениях М. Е. Салтыкова 1870-1880-х гг.: лейтмотивом эта тема проходит в «Благонамеренных речах», непосредственно ей посвящен цикл «Убежище Монрепо». «Был, было, дворянин, да черт переменил!» (т. 11, с. 114) - говорит старый слуга Лукьяныч барину, приехавшему в усадьбу «кончить» (продать имение. - М. А .). В очерке «Опять в дороге» сатирик напишет, что с упразднением крепостного права помещиками «овладело какое-то страстное желание ликвидировать» (т. 11, с. 217); для них стали бременем «и вода, и небо, и земля, и даже собственный, приходящий к разрушению дом» (т. 11, с. 217). А «ликвидировать» означает продать задешево, получить денег - и бежать проживать эти деньги на Запад. Но, что характерно, бежать с мыслью, что Россия - это источник (кисель), который способен кормить всегда: «Нагуляемся вдосталь, а там, если уж это непременно нужно (курсив мой. - М. А .) и опять домой воротимся кисель есть» (т. 16, кн. 1, с. 176).
Отношение к «культурным людям» у Салтыкова неоднозначное; примером может служить очерк «Дворянские мелодии» из цикла «В среде умеренности и аккуратности», в котором писатель выступает одновременно и как прокурор, и как адвокат поколения 1840-х гг.: он обвиняет это поколение идеалистов в неприспособленности к жизни, в том, что оно даже и не пыталось сделать гуманистические социальные идеи реальностью, «утопии» были лишь средством «украсить» жизнь. Но, с другой стороны, в очерке высказывается и мысль о том, что экскурсии «в область униженных и оскорбленных» в принципе небесполезны: у человека, способного сочувствовать ближнему, есть некая нравственная опрятность, понятия о великодушии, совести, долге, самоотверженности, есть чувство стыда, - всё это позволяет ему не быть «совсем скотиною». Салтыков сам принадлежал к поколению 1840-х гг. и не мог ему не симпатизировать, но не мог и закрыть глаза на то, что многие из его сверстников забыли о своем общественном долге, и, главное, на то, что люди «тургеневского» поколения, предпочитающие слово делу, на практике совершенно бессильны противостоять хищничеству.
Заключение
Подведем итоги: о чем сказка-притча Салтыкова? Думается, о России - сказочно богатой стране, богатства которой бесконтрольно и в гигантских масштабах начали истребляться с приходом «дикого» капитализма, чему способствовала идеология хищнического предпринимательства, с одной стороны, и легкомысленная позиция «культурных людей», с другой. «Столпов» - расхитителей общественной и личной собственности - легион, поэтому они и сливаются у Салтыкова в символический образ свиньи, пожирающей всё, что попадется на пути, и выступающей только с одним нехитрым лозунгом: «Подливай!» «Кисель» – это притча-предупреждение о том, что российские богатства не бесконечны. В этом отношении «Кисель» аналогичен сказке «Богатырь», тематическое задание которой также заключается в указании на печальные перспективы страны в случае сохранения такого положения дел.
Вернемся к цитате из письма М. Е. Салтыкова В. М. Соболевскому, к вопросу о том, что хотел сказать писатель с помощью образов сказки «Кисель». Судя по письму, Салтыков скептически относился к переселенческой политике правительства и к попытке властей таким образом наладить крестьянское хозяйствование в России. Безусловно, в случае успешного решения аграрного вопроса страна могла бы превратиться в цивилизованный Запад (выработать из себя «бланманже»), а в случае неуспеха (который и предвидит Салтыков) она останется киселем, т. е. патриархальной Россией с ее колоссальными природными богатствами и неразвитой экономикой.
Салтыков, подводящий в 1880-е гг. жизненные итоги, в цикле «Сказок» мучительно размышлял о судьбах России, пытаясь предостеречь русское общество от путей, которые казались ему тупиковыми. Ведь, как заметил он в «Убежище Монрепо», «ни о чем не болит сердце такою острою болью, как об отечестве» (т. 13, с. 393).
Список литературы К жанровой интерпретации сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Кисель»
- Аверинцев С. С. Притча // Краткая литературная энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1971. Т. 6. С. 20-21.
- Авдеева Е. А. Полная поваренная книга русской опытной хозяйки. СПб.: Изд. книгопродавца Д. Федорова, 1875. 507 с.
- Баскаков В. Н. Комментарии: М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки // Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М.: Худож. лит., 1974. Т. 16, кн. 1. С. 468-469.
- Баскаков В. Н., Бушмин А. С. Примечания к «Сказкам» // Салтыков-Щедрин М. Е. Сказки. Л.: Наука, 1988. 279 с.
- Брэм А. Жизнь многокопытных и морских млекопитающих животных. СПб.: Изд. М. Хана, 1869. 210 с.
- Даль В. Пословицы русского народа. Издание Императорского общества истории древностей российских при МУ. М., 1862. 1095 с.
- Захаренко И. В. Молочные реки (и) кисельные берега // Большой фразеологический словарь русского языка. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. С. 385-387.
- Макашин С. А. Салтыков-Щедрин. Последние годы. М.: Худож. лит., 1989. 526 с.
- Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Изд-во ЛГУ. 1986. 362 с.
- Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М.: Худож. лит., 1965-1977.
- Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1885. 116 с.
- Тюпа В. И. Нарративная стратегия притчи в литературной традиции // Притча в русской словесности: от Средневековья к современности: Коллективная монография. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014. С. 34-78.