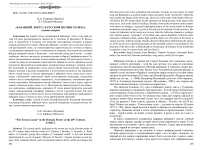"Кабацкий локус" в русской поэзии ХХ века: статья вторая
Автор: Гавриков Виталий Александрович, Кихней Любовь Геннадьевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (53), 2020 года.
Бесплатный доступ
Во второй статье, посвященной кабацкому тексту в русской поэзии ХХ века, рассматривается творчество С. Есенина, И. Бродского, В. Высоцкого, А. Башлачева. У Есенина этот комплекс «ресторанных мотивов» в первую очередь реализуется в цикле «Москва кабацкая». Есенин дает несколько ипостасей ресторанной темы, где аккумулируются практически все мотивы и образы, составляющие кабацкий текст в символизме и акмеизме. Высоцкий как ключевая фигура авторской песни и Башлачев - поэтический лидер рок-поэзии - в своих «кабацких текстах» наследуют основные мотивы и образы Серебряного века. Однако в произведениях поющих поэтов второй половины ХХ века присутствуют и элементы, ранее не входившие в пространство кабацкого текста, например, мотив кощунства. Бродский восстанавливает модернистскую мотивную матрицу почти без изменений. В завершение статьи дается общая типологическая матрица кабацких мотивов в русском модернизме и поэтической песенности (на материале обеих статей цикла). Система персонажей в кабацком тексте чаще всего следующая: «заблудший» лирический герой, потусторонние медиаторы, насельники гиблого места (своеобразный «персонал»), гости-бражники, женственно-эротические персонажи. Находящиеся внутри кабацкого локуса пьют, курят, дерутся, играют в азартные игры, пляшут и т.д. Пространство характеризуется, как замкнутое, мертвенное, инфернальное, миражное. В статье реконструируется сквозной сюжет, определяющий специфику кабацкого текста в русской поэзии ХХ века: затрудненный путь в гиблое место, вход в пограничье (преддверие), пребывание в кабацком локусе и выход из него, часто равнозначный спасению.
Сергей есенин, иосиф бродский, владимир высоцкий, александр башлачев, кабацкий текст, русский модернизм, песенная поэзия, мотив, художественное пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/149127432
IDR: 149127432
Текст научной статьи "Кабацкий локус" в русской поэзии ХХ века: статья вторая
Кабацкие мотивы в творчестве Сергея Есенина, без сомнения, заслуживают особого разговора - хотя бы уже потому, что один из ключевых есенинских циклов называется «Москва кабацкая» и с разных сторон раскрывает интересную нам тему. Кроме того, большинство рассмотренных в первой статье мотивно-образных элементов присутствуют в поэзии таких авторов второй половины XX века, как Иосиф Бродский («Подруга милая, кабак все тот же...», 1968), Владимир Высоцкий (дилогия «Очи черные», 1974) и Александр Башлачев (песня «Мельница», 1985), чье творчество многими нитями связано с русским модернизмом.
Что касается Есенина, то у него в кабацком тексте, как и у Гумилева, нередко появляется «двоящееся пространство». В этой связи показательно стихотворение «Годы молодые с забубенной славой...» (1924), герой которого отдает себе отчет в том, что оказался на стыке двух миров, каждый из которых может быть иллюзией. Более того, он поражен как бы слепотой: «Где ты, радость? Темь и жуть, грустно и обидно. / В поле, что ли? В кабаке? Ничего не видно. / Руки вытяну и вот - слушаю на ощупь» [Есенин 1977,1, 182]. Далее герой несется в какой-то бричке по заснеженному пространству. Бешеная скачка в итоге оборачивается пробуждением в больнице - герой хлещет не коней, а свою кровать, в руках я него не хлыст, а полотенце.
В тексте появляются узнаваемые маркеры кабацкого текста: сонный морок, некое марево, дымка, которая застит взор лирического героя. То же настроение и состояние: «жуть, грустно и обидно». Сразу три негативных эмоции, первой из которых назван ужас.
Обратим внимание и на наличие в тексте инфернальной тематики, которая присутствует в высказывании героя: «что за чёрт». Конечно, на первый взгляд данное выражение может быть соотнесено с неким «междометным возгласом», однако здесь кроется и второе дно: инфернальным

медиатором, перемещающим героя между двумя реальностями, может быть все тот же «чёрт» - представитель «темных сил» (по аналогии с гумилевским Асмодеем).
Похожим образом решен кабацкий текст и в стихотворении «Грубым дается радость...» (<1923>). Здесь присутствуют узнаваемые мотивы и образы, которые берут свое начало еще в произведении Анненского. Инфернальный статус кабака подчеркивается обращением к его посетителям: «Что ж вы ругаетесь, дьяволы?». Снова перед нами мотив двоящейся или замутненной реальности: «Мутно гляжу на окна». Уже знакомые нам по другим текстам эмоции испытывает лирический герой: «В сердце тоска и зной».
Лирический герой есенинского цикла и ряда других стихотворений, подобно блоковскому, озирает пространство вокруг кабака и находит там только безобразия. Словно окна заведения есть призма, которая замутняет взор и заставляет посетителя видеть все только в «черных красках»: «А на улице мальчик сопливый. / Воздух поджарен и сух. / Мальчик такой счастливый / И ковыряет в носу» [Есенин 1977, II, 276]. Как тут не вспомнить блоковские «канавы», «кривящийся диск», «горячий воздух», что «дик и глух».
Еще один «кабацкий текст» Есенина - «Да! Теперь решено. Без возврата...»(1 922). Здесь снова можно найти инфернальную тематику: «А когда ночью светит месяц, / Когда светит... чёрт знает как! / Я иду, головою све-сясь, / Переулком в знакомый кабак» [Есенин 1977,1, 172]. Опять Есенин играет с фразеологическим и прямым смыслами устойчивого словосочетания («светит месяц», «чёрт знает как» - уж не гоголевская ли аллюзия?).
Далее кабак называется «логовом жутким», а его посетители - те же опустившиеся люди, что и у других авторов-модернистов. Причем в данном стихотворении, в отличие от есенинских текстов, разобранных выше, возникает тема блуда, падших женщин: «Я читаю стихи проституткам». Среди всех кабацких женских образов Серебряного века именно этот кажется наиболее грубым. В инфернальном пространстве присутствуют и бандиты. Правда, в стихотворении нет описания интерьера.
Завершается «кабацкий блок» в данном произведении строками: «Я такой же, как вы, пропащий, / Мне теперь не уйти назад» [Есенин 1977, I, 173]. Заострим внимание на невозможности покинуть гиблое место: по сути, перед нами тот же мотив смерти и конечной расплаты за кабацкие бесчинства, что и у Анненского, Гумилева, а также безвыходность ситуации, эксплицированная в «Золотом» Мандельштама.
Наконец, текстом, в котором ярко эксплицируется кабацкая тематика, является произведение «Снова пьют здесь, дерутся и плачут...» (1922). Тут, в отличие от предыдущего стихотворения, дана довольно широкая панорама кабацкого бытия. Первое, о чем говорит поэт, это о тех занятиях, в которых проводят время бражники: «...пьют, дерутся и плачут». Это же делает и лирический герой: «Заливаю глаза вином». Вполне соотносимы с плачем (горькими сожалениями) и его риторические восклицания: «Что- то всеми навек утрачено. / Май мой синий! Июнь голубой!» [Есенин 1977, I, 174].
Большое значение в тексте имеет семантика смерти, которая эксплицирована в ряде образов. Например: «.. .чадит мертвячиной / Над пропащею этой гульбой», «Жалко им тех дурашливых, юных, / Что сгубили свою жизнь сгоряча» [Есенин 1977, I, 174]. И хотя не говорится о посмертном «расчете», однако расплата реализуется уже в самом факте гибели, которую можно рассматривать как в физической, так и в метафизической проекции.
Что касается инфернальной семантики, то косвенно с ней связан «гармонист с провалившимся носом», который поет про Чека. В мифологическом дискурсе есть устойчивая традиция изображения пришельцев из потустороннего мира (разумеется, инфернального статуса) как существ, у которых отсутствуют глаза и нос, с черепом вместо головы.
Снова здесь, как и в других текстах, появляется мотив одурманивания, безумия. Кроме того, речь идет о конфликтных ситуациях, показывается, почему не только пьют и плачут, но и дерутся: виной тому - «злое во взорах», «непокорное в речах». А в последнем катрене присутствует фраза о том, что биндюжникам «бесшабашность гнилью дана», где сохранятся в единой семантике мотив буйства (драки) и мотив тления (смерти). Таким образом, мы видим, что кабацкий текст русского модернизма имеет целый ряд общих мест, сквозных образов и мотивов, в которых он реализуется.
***
В 1968 году Иосиф Бродский пишет в Паланге стихотворение «Подруга милая, кабак все тот же...», где сконденсированы основные мотивы кабацкого локуса, отраженные в стихотворениях поэтов Серебряного века. С этим временем у поэта была живая связь - дружба с Ахматовой. Нет сомнения, через нее Бродский познакомился со множеством текстов, которые были недоступны рядовому советскому читателю. Тема «Бродский и Серебряный век» настолько огромная, что не может быть рассмотрена здесь даже в виде основных точек пересечения: так их много. Поэтому мы остановимся лишь на перекличках интересного нам текста с русской поэзией начала XX века.
Итак, первое, что бросается в глаза, это инобытийный статус кабака, где время словно остановилось: «всё тот же», «всё те» - повторяется несколько раз. А завершается это перечисление сентенцией: «Прогресса нет. И хорошо, что нет». Интересны и слова с оценочными коннотациями: «кабак», «дрянь на стенах» (видимо, плохая живопись), которые так контрастируют с обращением «подруга милая». Однако последняя строфа удостоверяет, что «милая» здесь, скорее, сарказм, а не выражение возвышенных чувств, потому что эта «милая» лгала лирическому герою. Таким образом, женская линия, хотя и не обладает ярко выраженным эротизмом, имплицитно все же соотносится с линейкой блудниц, явленной в предшествующей традиции. Ведь не сказано, в чем конкретно эта героиня обма-

нывала, поэтому допустим и вариант с изменой. В любом случае в Библии сатана называется «отцом лжи», хотя бы уже поэтому данный образ имеет скрытые демонические смысловые «обертоны». При этом женский образ не лишен блоковской таинственности и притягательности, которая коренится в речевой мелодике: лирический герой готов слушать даже ложь, лишь бы она исходила из милых (здесь уже без кавычек) уст. Но аксиологическая «подложка» этого чарующего наваждения все же амбивалентна.
Если в женском образе демонизм скрыт, то явно он реализован во второй строфе, где появляется пилот почтовой линии, который «как падший ангел, глушит водку». И звучит странная музыка - скрипки, которые волнуют воображение лирического героя. То есть перед нами двойной выход в инобытие: с одной стороны, это демоническое темное царство, с другой - потусторонний мир искусства, которые сплавлены в кабаке в нечто цельное. Обратим внимание и на алкогольные напитки: «падший ангел» пьет водку, лирический герой - вино. Все это вкупе с женскими чарами, которые герой мучительно пытается в себе изжить, и с музыкой составляет единое пространство иллюзий, погружающих в инобытие.
На контрасте с «дрянью» кабака видится пространство за окном: Бродский пишет о белых («как девство») крышах домов. То есть внешнее пространство заснежено, то же, как мы помним, было и у Мандельштама. Кстати, в фольклоре загробный мир часто явлен в образе снежной пустыни. Кроме того, слышится гудящий колокол (тоже образ-символ, связанный со смертью), а потом - на контрасте с белыми крышами - появляется двусловное предложение: «Уже темно». То есть перед нами пограничное время, вероятно, окончание сумерек, раз крыши все еще видятся безупречно белыми. Значит, перед нами граница не только между мирами (пространственная), но и временами суток (темпоральная).
И даже образ расплаты, пусть и неявно, можно отыскать в тексте Бродского. Мы говорим о фразе «всё те же цены» из первой строфы. За вино, которое пьет лирический герой, да и вообще за посещение этого инфернального места нужно будет впоследствии рассчитаться. И хотя пилот-демон как будто не тот, кто должен «сводить счеты», тема расплаты все же проступает и у Бродского. То есть у поэта мы видим линейку мотивов, организующих кабацкий текст в поэзии Серебряного века. У Бродского особенностью кабацкого мира является статичность и безжизненность последнего. Здесь нет ругани и драк, а инфернальный женский образ вынесен за пределы ресторанного пространства.
***
Современник Бродского Владимир Высоцкий, по мнению многих критиков и ученых, является лидером такого направления в русской словесности, как «авторская песня» (второе название - «бардовская песня»). Нет сомнения в том, что Высоцкий интересовался творчеством поэтов Серебряного века. В его библиотеке были книги многих русских модернистов, в том числе изданные в царское время или за границей. Среди русских модернистов самое сильное влияние на поэта оказал, пожалуй, Сергей Есенин. Об этом есть сведения и в мемуарах, однако наиболее релевантны здесь собственно поэтические тексты, в которых есть масса есенинских заимствований. Соответственно, и исследователи охотно обращались к теме «Высоцкий и Есенин». В этой связи можно указать на работы А.Е. Осипова [Осипов 1995], В.Ю. Чибрикова [Чибриков 2001], С.В. Вдовина [Вдовин 2006], И. Захариевой [Захариева 2008] и других. Поэтому можно предположить, что решающее значение в выстраивании «кабацкого текста» у Высоцкого сыграл именно есенинский мотивно-сю-жетный комплекс, связанный с «ресторанной тематикой». Однако оставим этот тезис «в виде версии».
В.А. Гавриковым и А.В. Скобелевым исследованы поэтические связи Высоцкого с Мандельштамом: как оказалось, между поэтами имеется немало текстуальных перекличек, в том числе есть и ряд примеров прямого цитирования [Гавриков, Скобелев 2016]. О текстуальных связях Высоцкого с Блоком рассуждает В.И. Новиков [Новиков 2011]. Теме «Высоцкий и Анненский» посвящена статья В.А. Гаврикова [Гавриков 2016]. Это, конечно, не все точки соприкосновения Высоцкого с русским модернизмом: например, в поэтике «барда» отчетливо прослеживается влияние Маяковского (правда, последний «кабацкую тему» в духе символистско-акмеистического двоемирия не разрабатывал).
Кроме того, темы и мотивы кабацкого текста Высоцкий мог усвоить и из общекультурного пространства, где рассматриваемый мотивно-образ-ный комплекс существует в виде архетипов, воспроизводимых не всегда осознанно. В любом случае, тексты Высоцкого свидетельствуют, что он, обращаясь к кабацкому тексту, конструировал его в тех же семантических «координатах», что и его предшественники.
В этой связи показательна дилогия «Очи черные». Имплицитным заимствованием из есенинского стихотворения «Годы молодые с забубенной славой...» можно считать мотив бешеной скачки, связанной с кабаком. Только у предшественника это движение кажущееся, а Высоцкий, вероятно, ведет речь о реально происходящей погоне, после которой он попадает в инфернальный дом у дороги.
Как мы помним, окружает гиблое место такое же по валентности пространство (у Блока, Есенина), то есть, строго говоря, двоемирие реализуется не по линии «внешнее - внутреннее пространство», а на противопоставлении пространств наличного, кабацкого и запредельного (грезы, мечты). У Высокого окружающий мир также враждебен, пейоративен: «И болотную слизь конь швырял мне в лицо», «Дождь, как яд с ветвей, / Недобром пропах» [Высоцкий 1999, 367]. Отдельного внимания заслуживает качество небесной влаги. У Высоцкого она отравлена, связана с ядом. Здесь можно припомнить «желтый туман» Мандельштама, окружающий мир в «Незнакомке» Блока.
Но, конечно, наиболее интересно то, что открывается при анализе собственно трактирного текста, который дан во второй части дилогии Высоц-
кого: в песне «Что за дом притих...». Здесь в первую очередь обращают на себя внимание жители гиблого места. Первый из них явно связан с загробной (инфернальной) тематикой: «Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги! / Никого, - только тень промелькнула в сенях...» [Высоцкий 1999, 368]. Исходя из контекста, можно заключить, что этот некто не является «живым»: да, есть устойчивое звательное выражение «есть кто живой?», однако Высоцкий, включая в микроконтекст образ тени, явно актуализирует и буквальное прочтение данного сочетания - «нет никого из живых». Кроме того, вместе с «тенью в сенях» появляется и стервятник, этот образ говорит сам за себя.
Еще один персонаж - некто неназванный, чей голос мы слышим в ответах лирическому герою. Не понятно, откуда исходит этот голос и кто говорит, что может тоже свидетельствовать о его потустороннем статусе. Этот некто, раскрывающийся в диалоге, произносит следующие примечательные фразы: «скисли душами», «опрыщавели», «разоряли дом», «дрались» и т.д. Попутно обратим внимание, что «голос» проявляет свою «неправильность» и акцентологически, он говорит: «щавеле» вместо положенного «щавеле», «дрались» вместо «дрались». Вспомним, что еще у Анненского в тексте появляется просторечие как своеобразное выражение «неправильности» мира. Перед нами деформация языка, а значит - и деформация сознания (вспомним похожий ход у Ахматовой в «Царскосельской оде»),
В тексте Высоцкого присутствует вор, который действует не так, как это ожидается от представителя подобной «профессии»: «И припадочный малый, придурок и вор, / Мне тайком из-под скатерти нож показал» [Высоцкий 1999, 368]. Вообще, вор должен красть, а не угрожать ножом. Мы можем вспомнить персонажей Мандельштама, в семантическом облике которых мы уже отмечали «сему» «воровство». Что же касается мотива насилия, то он проявляется в тексте Высоцкого несколько раз: это указанный нож, это уже упоминавшееся слово «дрались» как привычное действо жителей «чужого дома» (одно из названий песни), это и характеристики других обитателей гиблого места: «своротят скулу». Причем Высоцкий прямо называет их врагами: «А народишко - / Каждый третий - враг» [Высоцкий 1999, 368]. В Евангелиях, кстати, врагом называется сатана.
Мотив насилия связуется и с мотивом смерти. Завидя нового человека, входящего в «дом-кабак», спускается стервятник, «сужает круги»: значит, падальщик знает, что скоро у него будет пища. Вероятно, на счету «чужого дома» уже не один насильственный мертвец. Причем в тексте как бы рука об руку идут «тень в сенях» и стервятник - будто бы это звенья единой цепи. Излишне говорить о том, сколь важны мотивы убийства и потусторонних сущностей, ожидающих душу после смерти, в текстах модернизма (укажем здесь хотя бы на стихотворение «У цыган» Гумилева). Отметим также, что местом обитания и гробовщика в стихотворении Анненского, и тени у Высоцкого являются сени - то внешнее пространство, которое, по сути, оказывается некоей запредельной, загробной сферой.
Практически во всех текстах «падшие персонажи» злоупотребляют алкоголем, не исключение здесь и герои Высоцкого: «.. .да еще вином много тешились»; «В дом заходишь как / Все равно - в кабак». Вероятно, именно пьянство продуцирует бред, выпадение из реальности, погружение в болезненные миражи: «.. .затеялся смутный, чудной разговор».
В тексте Высоцкого присутствуют риторические восклицания лирического героя. Напомним, что подобные эмоциональные взрывы (отчаяния, негодования) являются общим местом кабацкого текста в Серебряном веке. К обитателям дна обращается герой Есенина, Мандельштам же, напротив, взывает к Богу. Кстати, в этом риторическом по своей сути высказывании героя Высоцкого заложено блоковское двоемирие, проходящее, что нам сейчас важно, не по линии «явь - бред», а в разрезе отношений «гиблое место» vs «светлое, гармоничное пространство». Ср. у Высоцкого: «Укажите мне край, где светло от лампад! / Укажите мне место, какое искал, / Где поют, а не стонут, где пол не покат!» [Высоцкий 1999, 368]. Данное восклицание остается без ответа: «нечистые» как раз для того и сидят в своем логове, чтобы губить зашедшего к ним. Им ли показывать путь в светлые обители? Поразительно, но вопреки логике, эти восклицания-заговоры срабатывают: после них лирический герой покидает гиблое место, чего не было в большинстве рассмотренных в первой статье текстов.
Отельного разговора заслуживает описание интерьера у Высоцкого. Дом является местом неуютным, душным. Упоминается о сквозняках, дом стоит «на семи лихих продувных ветрах», «двери настежь» - вспомним, как часто у представителей Серебряного века встречался мотив загробного холода. При этом, несмотря на кажущуюся открытость, дом в тексте Высоцкого не впускает свежего воздуха: «Воздух вылился». В этом пространстве парадоксально сочетаются духота и холод, что, конечно, вызывает ассоциации с могилой. На них работает и указание, что дом полон «смрада», это «барак чумной». Как тут не вспомнить ахматовские «навсегда забитые окошки», которые прямо связывают кабацкое пространство с мертвым домом, гробом.
У Высоцкого не понятно, откуда появляется копоть на иконах («Испо-кону мы - / В зле да шепоте, / Под иконами / В черной копоти» [Высоцкий 1999, 369]), но если дом по всему напоминает кабак, то, значит, и курят здесь, как в кабаке. Это также связывает текст с рядом модернистских произведений, уже у Анненского появляется гашиш, который, как известно, курят. То же у Ахматовой: «Ты куришь черную трубку, / Так странен дымок над ней» [Ахматова 1990, 48]. У Гумилева: «Мне ли видеть его в дыму сигарном...» [Гумилев 1988, 334].
Следует отметить, что у Высоцкого купирована женственно-сексуальная тема, она появляется лишь косвенно - в песне, которую поет лирический герой («Очи черные»). То есть женский образ как бы выведен из кабацкой семантики, словно находится в инобытии. Здесь можно провести некоторые параллели с блоковской Незнакомкой, которая тоже выглядит пришельцем из другого мира, однако у Высоцкого светлый женский об-
раз находится «за скобками» гиблого пространства, тогда как у Блока речь идет все-таки о присутствии Прекрасной Дамы - пусть даже и умозрительном (если речь идет о галлюцинации).
Ну и, конечно, следует сказать о цыганских мотивах. У Высоцкого они заявлены имплицитно - через песню «Очи черные», при этом гумилевское «У цыган» прямо апеллирует к данной тематике.
А вот мотив утраченной веры (перекошенные образа, погасшие лампады) является уникальным - присутствует только у Высоцкого. По крайней мере, в тех произведениях Серебряного века, о которых речь шла в первой статье, он не эксплицирован. Там есть приметы ада (которые можно отыскать и у Высоцкого), а вот ничего райского, пусть даже и в «запущенном состоянии», у поэтов-модернистов не обнаруживается (разве что купола у Есенина - но это приметы внешние по отношению к пространству кабака). Вероятно, это объясняется особенностями эпохи, в которую жил и творил Высоцкий: следы великой православной культуры, вытравливаемой атеистическим советским строем, были налицо. Как налицо было и их повсеместное уничтожение. Поэтому гиблое место воспринималось Высоцким как нечто постхристианское, в отличие от Серебряного века, где речь шла преимущественно о нехристианском дискурсе.
***
Что касается Башлачева, который моложе Бродского и Высоцкого на два десятилетия, то, по общему мнению, этот автор является поэтическим лидером советского рок-искусства, оказавшим серьезное влияние практически на всех видных рок-деятелей: Б. Гребенщикова, Ю. Шевчука, В. Цоя, Е. Летова, Я. Дягилеву, К. Кинчева и др. При этом следует отметить генетическую преемственность русского модернизма и советской рок-поэзии, в которой именно модернистский код является определяющим. Такая ориентация могла способствовать появлению «кабацкого текста» в рок-песенности, обусловив его решение в единых семантических координатах. Хотя многое рокерами было переоткрыто интуитивно: глубокого погружения в Серебряный век здесь не наблюдается. Этот вопрос подробно был рассмотрен С.В. Свиридовым, который справедливо отмечает, что «“мо-дерность” рок-песенности скорее типологическая, опосредованная, нежели заимствованная» [Свиридов 2002, 14].
Данный тезис справедлив в отношении большинства советских рок-поэтов, но Башлачев здесь скорее исключение. Достаточно сказать, что у него есть целая россыпь цитат из творчества Мандельштама, Есенина, Блока, Маяковского и других представителей русского модернизма начала века. Таким образом, можно утверждать, что Серебряный век для этого поющего поэта был важной традицией, из которой он усваивал темы, сюжеты, образы...
В этой связи остановимся на песне «Мельница» (1985), где полно реализован интересный нам «кабацкий текст». Начнем с пути в гиблое место: пересечение внешнего пространства у Башлачева затруднено - как и у
Высоцкого, а также Мандельштама (у последнего, напомним, лирический герой двигался «по пояс в тающем снегу»). Ср. у Башлачева: «Дальний путь - канава торная: / Все через пень-колоду-кочку кувырком да поперек» [Наумов 2017, 94]. Внешнее пространство (как у Блока, Есенина, Мандельштама) враждебно и неуютно: «Черных туч котлы чугунные кипят / Да в белых трещинах шипят гадюки-молнии» [Наумов 2017, 94].
У Башлачева нет пограничного пространства, но есть, если так можно выразиться, «пограничный персонаж», соотносимый с гробовщиком Анненского и подобными ему героями. Он встречает лирического героя на входе: «Здравствуй, Мельник Ветер-Лютый Бес! / Ох, не иначе черти крутят твою карусель» [Наумов 2017, 94]. Здесь же обратим внимание на работников гиблого места. Если в других текстах они могут быть названы лакеями, имплицитно - продавцами (у Мандельштама в «Золотом»), то тут они названы прямо - чертями. Другие персонажи также инфернальны: это воры («Цепкий глаз. Ладони скользкие. / - А ну-ка кыш! - ворье, заточки-розочки!» [Наумов 2017, 94]), дезертиры («А парни-то все рослые, плечистые. / Мундиры чистые. Погоны спороты» [Наумов 2017, 94]). Женственно-эротические персонажи решены в духе Есенина (вспомним упоминавшихся проституток), даже более жестко: «На мешках... - бабы сытые» (слово «бабы» присутствует только в списках, пел Башлачев иначе...). Своеобразными «некротическими» персонажами у Высоцкого и Башлачева становятся летающие падальщики: у Высоцкого - стервятник, у Башлачева - «мухи жирные» (как тут не вспомнить еще одну птицу, ассоциируемую со смертью, - ворона из ахматовской «Царскосельской оды»),
В тексте Башлачева эксплицированы мотивы пьянства (причем бесконечного, безудержного) и азартных игр: «Что крутят вас винты похмельные», «У нас ковши бездонные / Да все кресты - козырные» [Наумов 2017, 95]. Вспомним, что и у Анненского «кости» в одном из значений связаны с игральной семантикой. Слово «кресты» вместо привычного обозначения карточной масти «крести» является намеком на христианский код. Он присутствует и далее. Как и у Высоцкого, у Башлачева дан редко встречающийся в Серебряном веке мотив кощунства: «С утра пропитые кресты нательные» (правда, в гумилевском стихотворении «Крест» этот мотив станет центральным сюжетным «пуантом»). Есть у Башлачева и мотив курения: «Черный дым ползет из трубочек. / Смеется, прячется в густые бороды» [Наумов 2017, 95].
Большое значение для сюжета «Мельницы» имеет мотив избиения лирического героя инфернальными сущностями: «Ближе лампы. Ближе лица белые. / Да по всему видать - пропала моя голова! / Ох, потянуло, понесло, свело, смело меня / На камни жесткие, да прямо в жернова! / Тесно, братцы. Ломит-давит грудь. / Да отпустили б вы меня - уже потешились» [Наумов 2017, 95].
Четко в рамках «кабацкого текста» у Башлачева изображено внутреннее пространство гиблого места. Мельница с виду выполняет свою защитную функцию, однако она дает только иллюзию тепла: «Жарко в комнатах натоплено. / Да мелко сыплется за ворот нехороший холодок» [Наумов 2017, 95]. Лирический герой Башлачева зябнет, то же было и в других текстах, особенно ярко это эксплицировано у Мандельштама.
Наконец, выход из гиблого места у Башлачева реализуется наиболее радикально: мельница сгорает, лирический герой приходит в себя на ее пепелище.
В завершение попробуем реконструировать мотивно-образную матрицу кабацкого текста, основываясь на материалах двух статей.
Система персонажей
В «кабацком тексте» выделяется 5 типов персонажей.
-
- Лирический герой.
-
- Страж на границе миров (медиатор, судия, «приемник» души), причем часто эта граница названа сенями (Анненский, Мандельштам, Высоцкий).
-
- Работники (насельники) гиблого места, периодически это лакеи. Этот инфернальный «персонал» присутствует примерно в половине рассмотренных текстов.
-
- Гости-бражники (своеобразные двойники лирического героя), нередко в демоническом обличии.
-
- Женственно-эротические персонажи. Часто прямо или косвенно фигурируют цыганки (Блок, Мандельштам, Высоцкий).
С точки зрения авторской модальности, все эти персонажи, кроме, пожалуй, самого лирического героя, могут быть отнесены к инфернальной сфере. Правда, в редких случаях женский персонаж может не быть таковым или, по крайней мере, казаться амбивалентным (у Блока). Заметим, что в «кабацком тексте» нет традиционного для сказок и мифов героя-помощника: лирический герой одинок во враждебной ему действительности. То есть нет традиционного для «культуры бражничества» собутыльника или двух собутыльников, с которыми алкоголь распивается «на троих».
У всех рассмотренных авторов помимо лирического героя в кабаке присутствуют гости-бражники и женственно-эротические образы. Потусторонний медиатор есть у Анненского и Гумилева (показательная связка!), а также у Высоцкого и Башлачева, что тоже симптоматично. Данные образы-посредники всегда связаны с преддверием («сенями»), хотя оно иногда как будто и пусто, например, у Мандельштама.
Пространственные характеристики
Описываемое пространство двух-, трех- или даже четырехчастно. Последний случай можно встретить в дилогии Высоцкого (здесь есть некий «рай»), В любом случае, даже при указании на идеальный мир, в текстах как модернистов, так и представителей песенности, нет его подробных описаний. Это может свидетельствовать, что авторы намечают новую про- странственную модель - она лишь обозначается как существующая, но перехода к ней не происходит.
Таким образом, локативная модель «кабацкого текста» бинарна и сводится к базовой оппозиции: внутреннего и внешнего пространств, каждое из которых может быть определено как гиблое.
К основным свойствам этого пространства следует отнести следующие.
-
- Инфернально сть. Не нее работают как пейоративные характеристики пространства, так и недолжное поведение персонажей.
-
- Симулятивность (миражность). К ней примыкает мотив демонической подмены.
-
- Мертвенность. В некоторых текстах кабак напрямую уподобляется гробу, преисподней. Но даже там, где заведение может соотноситься с жизнью, это не настоящая жизнь, а лишь разыгрывание ее, некое «антибытие».
-
- Замкнутость (безвыходность). В большинстве текстов герою все-таки удается покинуть гиблое место, однако часто это происходит с большим трудом: локус призван не отпускать героя.
-
- Физическая неуютность. Кабак оказывается холодным, смрадным, дымным, душным. В любом случае, он не является комфортным местом для путника.
-
- Опасность. Лирический герой часто подвергается опасности, иногда смертельной, причем угроза исходит и от инфернального судии-медиатора, и от «работников» кабака, и от других бражников, и даже от женственно-эротических персонажей (например, у Гумилева).
Интересно, что указанные характеристики присутствуют в подавляющем числе текстов, а некоторые качества (мертвенность, инфернальность, неуютность) в той или иной форме проявляются во всех текстах.
События, происходящие в кабаке, и занятия персонажей
-
- Бражничанье. Алкоголь присутствует у всех авторов, чаще всего его употребляют гости - двойники лирического героя, иногда - он сам, изредка - женский персонаж. Зато никогда не пьют спиртного судия-медиатор и «работники» кабака.
-
- Трапезничанье. Часто это поедание чего-то не пригодного в пищу или малопригодного.
-
- Курение табака, наркотика. Тут интересная связка: с одной стороны, этот мотив проявлен у Анненского, Гумилева, Ахматовой, с другой - у Высоцкого и Башлачева. Ранее мы видели, что эти связки возникают и при анализе других аспектов.
-
- Ругань, истерика.
-
- Драка (избиение) или угроза побоев. Чаще всего угроза исходит от гостей-бражников и направлена в отношении лирического героя.
-
- Убийство или угроза убийства. А вот здесь опасность может исходить
не только от гостей-бражников, но иногда и от медиатора, даже женского персонажа. Причем в той или иной форме этот мотив присутствует по всех текстах, меньше всего он проявлен у Мандельштама (но и у него есть странный образ - «нож в солонке»),
-
- Пляска, пение, игра на музыкальных инструментах. А здесь из общего контекста выламываются хронологический первый и последний авторы: Анненский и Башлачев. У всех остальных авторов музыкальные коды так или иначе прописаны.
-
- Азартные игры (карты, кости). Снова соответствия: Аннексий Гумилев, Башлачев; у других авторов этот мотив не отмечается.
-
- Монотонные, механические действия - присутствуют у всех авторов. Здесь можно выйти на темпоральные характеристики хронотопа: инфернальное пространство - место, где время как минимум искажено, а как максимум - остановлено. Собственно, концепция завершения времен («времени больше не будет») вполне увязывается с трансцендентальным инобытием, где явлена некая «симультанная вечность» - отсюда и постоянство, монотонность этих бесконечных действий.
Авторская модальность
Это чувства, которые испытывает лирический герой, находясь в кабаке, часто - его оценка происходящего, интерьера, эмоциональный отклик на события.
-
- Скука. Скучающими могут быть бражники, «работники» кабака, сам лирический герой. Часто это чувство продуцируется монотонными, механическими действиями.
-
- Тоска. Справедливо все сказанное в отношении скуки.
-
- Страх. В первую очередь это чувство испытывает лирический герой. Причем страх может быть связан с угрозой расправы («страх физический»), а может - со странными, непонятными событиями, происходящими в симулятивном пространстве кабака («страх метафизический»),
-
- Отчаяние. Это чувство присуще и лирическому герою, и бражникам. Оно возникает в связи с потерей ориентира в жизни, это «долгосрочное» чувство, не привязанное к конкретным сюжетным событиям.
-
- Желание забыться. Как правило, в омут беспамятства толкают героя и бражников безобразия, которые творятся вокруг. Либо пагубное пристрастие к алкоголю.
-
- Физический дискомфорт. Связан с характеристиками кабака: холодом, духотой, плохим запахом.
В итоге можно восстановить общий матричный сюжет, который либо целиком, либо в узловых частях реализуется во всех произведениях.
-
1. Ночной или вечерний путь по враждебному пространству. Как правило, сопровождается непогодой, преодолением тех или иных неудобств, препятствий.
-
2. Вход в пограничье (преддверие), где ожидает инфернальный меди-
- атор.
-
3. Пребывание в кабаке, сопровождаемое целым рядом пейоративных действий как со стороны лирического героя, так и гостей-бражников. Это центральный блок всех произведений (за исключением первой части дилогии у Высоцкого).
-
4. Выход из «гиблого места» или взгляд во внешнее пространство.
Если первые три этапа у всех поэтов представляют собой единый мо-тивный комплекс, то четвертый этап реализован по-разному. Чаще всего герой покидает кабак на лошадях, все завершается скачкой (Мандельштам, Высоцкий, Есенин, правда, у последнего скачка предваряет последний этап). В некоторых текстах выход происходит только «зрительный»: герой лишь наблюдает пространство вне кабака. В остальном же - почти полное несовпадение. У Блока выход происходит ментально - в сладкую грезу (физически герой, видимо, остается в кабаке). У Гумилева выход - в смерть, потустороннее пространство (передвижение в ладье по загробной реке), у Блока тело также остается на месте - путешествует душа. У Мандельштама выход из кабака означает дорогу в неизвестность, как и у Высоцкого. У последнего, правда, намечен ориентир - «и где люди живут, и как люди живут». У Есенина возвращением из инфернального локуса становится пробуждение, либо говорится, что выход невозможен. Бродский видит внешнее пространство через окно, но оно явно связано со смертью (снег, звук колокола). У Башлачева - гиблое место сгорает, герой приходит в себя на пепелище. Таким образом, намечается несколько возможных выходов: путешествие души, уход в собственные психологические глубины, физическое перемещение за пределы кабака.
Рассмотренная матрица мотивов свидетельствует, что представители песенной поэзии, по крайней мере Высоцкий и Башлачев, были в какой-то степени продолжателями традиции Серебряного века, однако в их текстах появляются и некоторые моменты, которые свидетельствуют о трансформации мотивно-комплексной системы «кабацкого текста», ее адаптации к историческим реалиям советского времени (образ поруганной веры). Интересная связка намечается по линии Анненский - Гумилев - Высоцкий -Башлачев. Словно акмеисты (за исключением Мандельштама), а затем и представители песенной поэзии выстраивают свой подтип кабацкого локуса. Собственно, это можно объяснить и биографическими причинами: понятна связь Анненского и Гумилева, да и Высоцкий для Башлачева -один из двух (наряду с Пушкиным) любимых и самых цитируемых поэтов, а также старший современник. Можно осторожно предположить здесь прямое влияние, то есть у указанных поэтов проявляется не «бродячая» архетипическая матрица, а речь в каждой из связок идет о наследовании. Хотя это, конечно, подтвердить не так просто.
Второй подтип образуют почему-то Блок, Мандельштам и Есенин: они совпадают почти во всем. Например, касаемо персонажных характеристик: из 12 случаев соединения персонажа и его характеристики (3 автора, у каждого - по 4 персонажных типа) - только одно несовпадение. Очень
близки свойства пространства, разве что у Блока, в отличие от Мандельштама и Есенина, не выражена такая характеристика кабацкого локуса, как опасность. Во всем остальном - почти полное совпадение. Например, об отсутствии у этих трех авторов мотивов курения и азартных игр уже говорилось.
А вот Бродский заимствует классическую мотивную структуру, которая идет еще от Анненского, без актуализации какого-либо из ее подтипов: позицию поэта второй половины XX века можно назвать интегральной -он берет наиболее частотные мотивы из предшествующей традиции, не склоняясь к какому-либо подтипу. Хотя он все же ближе к традиции Блока, Мандельштама, Есенина.
Список литературы "Кабацкий локус" в русской поэзии ХХ века: статья вторая
- Ахматова А. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1990.
- Вдовин С.В. Золотоволосый «хулиган» и «златоустый блатарь» (Есенин и Высоцкий) // Владимир Высоцкий в контексте художественной культуры: сб. науч. ст. / ред.-сост.: С.А. Голубков, М.А. Перепелкин, И.Л. Фишгойт. Самара, 2006. С. 200-218.
- Высоцкий В. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1999.
- Гавриков В.А. Высоцкий и Анненский // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2015-2016 гг.: сб. науч. тр. / редкол.: Г. А. Шпилевая, С.М. Шаулов, А.Б. Сёмин, А.В. Скобелев. Воронеж, 2016. С. 38-33.
- Гавриков В.А. Скобелев А.В. Высоцкий и Мандельштам // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2015-2016 гг.: сб. науч. тр. / редкол.: Г.А. Шпилевая, С.М. Шаулов, А.Б. Сёмин, А.В. Скобелев. Воронеж, 2016. С. 3953.
- Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. Л., 1988.
- Есенин С. Собрание сочинений: в 3 т. М., 1977.
- Захариева И. Диалог в русской поэзии ХХ века (С. Есенин - Вл. Высоцкий) // Захариева И. Аспекты формирования канона в русской литературе ХХ века. София, 2008. С. 89-98.
- Наумов Л. Александр Башлачев: человек поющий. 3-е изд., испр. и доп. М., 2017.
- Новиков В. «Эта муза.»: Блок и Высоцкий - на фоне Пушкина // В поисках Высоцкого: Науч.-популяр. период. изд. Пятигорск, 2011. С. 26-31.
- Осипов А.Е. «История сердцу знакомая»: С.А. Есенин и В.С. Высоцкий // С.А. Есенин: Проблемы творчества, связи: Межвуз. сб. науч. тр. Рязань, 1995. С. 65-71.
- Свиридов С.В. Рок-искусство и проблема синтетического текста // Русская рок-поэзия: текст и контекст. Вып. 6. Тверь, 2002. С. 5-32.
- Чибриков В.Ю. Сергей Есенин и Высоцкий: Влияние поэзии Сергея Есенина на творчество Высоцкого // Творчество Владимира Высоцкого в контексте художественной культуры ХХ века. Сб. статей. Самара, 2001. С. 66-70.