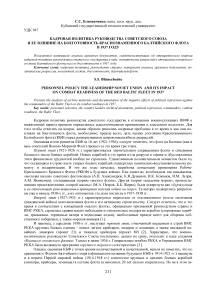Кадровая политика руководства Советского Союза и ее влияние на боеготовность Краснознаменного Балтийского флота в 1937 году
Автор: Близниченко С.С.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 2 (37), 2012 года.
Бесплатный доступ
Излагаются материалы анализа архивных документов, свидетельствующих об отрицательном влиянии кадровой политики руководства советского государства в виде политических репрессий в отношении командного состава Балтийского флота на его боеготовность в 1937 году.
Кадровая политика, руководство страны, материалы анализа, архивные документы, политические репрессии, командный состав, боеготовность, балтийский флот
Короткий адрес: https://sciup.org/142142475
IDR: 142142475 | УДК: 947
Текст научной статьи Кадровая политика руководства Советского Союза и ее влияние на боеготовность Краснознаменного Балтийского флота в 1937 году
Кадровая политика руководства советского государства в отношении военнослужащих ВМФ в межвоенный период времени определялась идеологическими принципами и классовым подходом. Для того чтобы ответить на вопрос, каким образом решались кадровые проблемы в то время и как они повлияли на боеготовность флота, необходимо, прежде всего, дать оценку состояния Краснознаменного Балтийского флота (КБФ) перед развертыванием широкомасштабных репрессий.
Оценивая итоги развития КБФ за 16 лет (1921-1936), следует отметить, что флот на Балтике (как и весь советский Военно-Морской Флот) прошел за это время три этапа.
Первый этап (1921-1926 гг.) характеризовался значительным сокращением флота и списанием большого числа боевых кораблей. Новых кораблей в это время из-за разрухи в стране и обусловленных этим финансовых трудностей вообще не строилось. Единственным положительным моментом было то, что оставшаяся в строю часть старых боевых кораблей подверглась капитально-восстановительному ремонту и модернизации. В эти же годы началась выработка концепции применения РабочеКрестьянского Красного Флота (РККФ) в будущих войнах. Как известно, возобладала так называемая, «молодая школа» советских флотоводцев (А.П. Александров, К.И.Душенов, И.К. Кожанов, И.М. Лудри, А.М. Якимычев), отстаивавшая теорию «малого флота». Другая теория «владения морем», провозглашенная представителями «старой школы» (М.А. Петров, Б.Б. Жерве), была отвергнута как « буржуазная и не отвечающая революционным принципам ведения войны на море ». Ее авторы подверглись репрессиям уже в начале 1930-х гг., а их оппонентов эта доля постигла в 1937-1938 гг.
Второй этап (1927-1934 гг.) характеризуется переходом от послевоенного (после окончания гражданской войны) восстановления флота к его активному строительству. Следует отметить, что в это время в соответствии с концепцией «малого флота», официально признанной руководством страны и ВМС РККА, строились сравнительно небольшие и относительно недорогие корабли (сторожевые корабли, тральщики, торпедные катера и подводные лодки), необходимые прежде всего для обороны собственного побережья, а также морская авиация [1].
И наконец, с середины 1930-х гг. наступает третий этап , отмеченный введением в строй ВМС РККА крупных боевых единиц – новых легких крейсеров, лидеров и эсминцев, а также закладкой новейших линкоров (проект 23) и тяжелых крейсеров (проект 69) [2]. Характерно, что военнополитическое руководство Советского Союза постепенно, далеко не сразу, подходит к идее создания « Большого океанского флота ». Только в июне 1936 г. Генеральным штабом РККА и Управлением ВМС РККА была выдвинута программа « крупного морского судостроения » [3].
Однако, оценивая КБФ с точки зрения количественной и качественной, нельзя не заметить, что по сравнению с Флотом Балтийского моря (официальное название будущего КБФ в 1914-1921 гг.) накануне и в период Первой мировой войны (1914-1918 гг.) количество крупных и средних боевых кораблей (линкоры, крейсеры, эсминцы) в составе флота за неполных 20 лет сильно сократилось. Но не в этом за- ключалось главное различие в состоянии Балтфлота перед Первой и Второй мировыми войнами. Прежде всего, бросается в глаза явная несбалансированность боевого состава КБФ. Кроме того, «слабым звеном» являлись молодые кадры советских флотоводцев, командиров соединений и кораблей. Дело в том, что бывшие царские флотские офицеры, имевшие большой боевой опыт Русско-японской и Первой мировой войн, частью эмигрировали за границу вместе с остатками белогвардейцев, частью были репрессированы в период с 1921 по 1931 г. Новая поросль военно-морских «красных командиров» была представлена в основном выпускниками Отдельных гардемаринских классов (ОГК) и Школы мичманов военного времени (ШМВВ), а также Военно-морского училища (ВМУ) им. М.В. Фрунзе. Даже выпускники Военно-морской академии (ВМА) им. К.Е. Ворошилова, за редким исключением, обладали багажом знаний на порядок меньше, чем «академики» Российского Императорского флота.
Во главе Морских сил Балтийского моря (МСБМ) с 1920 по 1936 г. последовательно стояли «черные гардемарины» – Ф.Ф. Раскольников (Ильин) [4], И.К. Кожанов [5] и молодые бывшие офицеры царского флота М.В. Викторов [6], А.К. Векман [7], Л.М. Галлер [8]. Такими же молодыми, за редким исключением, были и командиры основных соединений КБФ – Г.Г. Виноградский [9], К.И. Самойлов [10], Н.Н. Несвицкий [11], не говоря уже о командирах кораблей Г.И. Левченко [12], И.С. Исакове [13], В.И. Иванове [14] и многих других.
Из всех командующих МСБМ и КБФ в 1921-1936 гг. наибольший вклад в развитие флота на Балтике внесли флагман флота 1 ранга М.В. Викторов и флагман флота 2 ранга Л.М. Галлер. Последний командовал Краснознаменным Балтийским флотом с 1932 по 1936 г. Можно сказать, что Лев Михайлович Галлер вложил всю свою душу в КБФ. При нем штаб флота возглавляли П.Г. Стасевич [15], И.С. Исаков и А.К. Сивков [16]. С января 1937 г. во главе КБФ стал флагман 1 ранга Александр Кузьмич Сивков, имевший высшее (академическое) инженерное флотское образование.
Сравнительный анализ уровня боеготовности КБФ до начала и после окончания политических массовых репрессий необходимо проводить с марта 1937 по ноябрь 1939 г. Именно в этот период наиболее заметна разница в показателях боевой подготовки отдельных кораблей и соединений флота в целом. В данной статье мы ограничимся только рассмотрением влияния первого этапа политических репрессий 1937 г. на боеготовность флота.
5 марта 1937 г. на КБФ под руководством комфлота флагмана 1 ранга А.К. Сивкова и начштаба флота капитана 1 ранга И.С. Исакова была проведена общефлотская оперативная игра на тему «Действия подводных лодок и воздушных сил на коммуникациях с целью не допустить питания противника морем через южные порты Балтийского моря и с целью срыва перевозок через порты Финского и Рижского заливов, с одновременным содействием флангам сухопутной армии на побережье Финского залива » [17]. Масштаб оперативной игры (число участников, время) ограничивался действительной потребностью и тренировкой тех, кому фактически придется решать эти задачи. Для выработки единства оперативного мышления комсостава, как отмечалось позже в отчете начальника штаба КБФ капитана 1 ранга И.С. Исакова, «на разбор привлекались все флагманы и командиры, которые должны знать характер операций КБФ» [18]. Среди присутствовавших на этой игре были командир бригады линкоров капитан 1 ранга К.И. Самойлов, командир бригады эсминцев флагман 2 ранга Г.Г. Виноградский, командиры бригад подлодок флагман 2 ранга Е.К. Самборский [19] и капитан 1 ранга А.А. Пышнов [20], начальник ВВС КБФ комдив М.А. Горбунов[21] и другие. Подавляющее большинство из названных командиров и военачальников было репрессировано уже к концу 1937 года.
Опуская сам ход игры, стоит сосредоточиться на основных выводах, сделанных руководством игры. По итогам оперативной игры командованием КБФ в составе комфлота флагмана 1 ранга А.К. Сивкова, члена Военного совета флота армейского комиссара 2 ранга А.С. Гришина [22] и начштаба флота капитана 1 ранга И.С. Исакова было сделано немало полезных наблюдений о качестве оперативного руководства обеих сторон. Действия командования «красной» стороны (командира бригады линкоров капитана 1 ранга К.И. Самойлова) были оценены как «в большинстве своем неправильные» [23]. В действиях командиров бригад подлодок (флагмана 2 ранга Е.К. Самборского и капитана 1 ранга А.А. Пышнова) было также обнаружено немало недочетов тактического характера [24].
Действия командующего ВВС «красных» полковника А. М. Вирака также оказались неудачными ввиду того, что решение было принято им «без полного оперативного объема, вытекающего из поставленной задачи в данный момент перед КБФ» [25] .
В противоположность «красным» действия «синей» стороны (командира бригады эсминцев флагмана 2 ранга Г.Г. Виноградского) были оценены руководством игры как правильные и осмысленные. Ведь недаром Г.Г. Виноградский в течение долгого периода времени (с 1921 по 1937 г.) командовал бригадой эсминцев КБФ и бригадой крейсеров ЧФ, а также служил начальником штаба ЧФ в 1928-1930
гг. Несмотря на потерянные в результате репрессий начала 1930-х гг. несколько лет карьерного роста, Георгий Георгиевич, по мнению Л.М. Галлера, был «лучшим комбригом эсминцев в стране» [26].
Командующим КБФ флагманом 1 ранга А.К. Сивковым были отмечены следующие грамотные действия «синих» (условного объединенного флота противников) под командованием флагмана 2 ранга Г.Г. Виноградского: 1) создание в устье Финского залива сильного противолодочного рубежа, поддерживаемого всеми силами; 2) сосредоточение на аэродромах Финляндии и Эстонии мощной авиационной группировки и правильное ее использование; 3) использование своих ПЛ как средство борьбы с подлодками «красных»; 4) перенесение своих коммуникаций в шведские шхеры; 5) использование демонстративных колонн транспортов; 6) создание отряда легких сил в Ханко; 7) постановка минных заграждений в Ботническом заливе [27].
В результате проведения оперативной игры командованием КБФ было сделано немало правильных выводов. Обнаружилось, что оперативное взаимодействие различных соединений флота отработано еще неудовлетворительно. Кроме того, части, приданные из других родов оружия, использовались зачастую для решения задач, непосредственно не подчиненных целям проводимой операции [28]. Крайне важным обстоятельствам, сильно снижающим результативность действий сторон (в первую очередь «красной»), являлось отсутствие систематического изучения обстановки не театре, из-за чего решения часто принимались « без учета действий своего соседа » и не соответствовали действительности. Более того, даже при решении задач разными силами (подлодки и авиация), преследующих одну и ту же цель, отсутствовал взаимный обмен информацией. Также выяснилось, что оформление документов производилось не по существовавшему наставлению, из-за чего в приказах не всегда ясно и четко ставились боевые задачи. Отмечалась и недостаточно хорошая работа воздушной разведки [29].
Анализ игры показывает, что почти все учебные задачи, поставленные в игре, так и не были решены. Особенно это касается совместных действий подлодок и авиации, а также самостоятельных действий бомбардировочной авиации по нарушению неприятельских коммуникаций в море. Даже основная задача игры, ради которой, собственно, она и была затеяна, - обеспечение прорыва ПЛ через противолодочный рубеж - осталась фактически нерешенной из-за неграмотного руководства «красного» командования операцией. В итоге в качестве рекомендации на будущее было всего лишь предположено, что задачу по проталкиванию « днем с боем ПЛ » можно осуществить лишь « при соотношении сил в море в нашу пользу, т.е. когда мы сильнее на воде » [30]. Таким образом, главная учебная задача оперативной игры превратилась лишь в некоторую теоретическую проблему, над решением которой еще предстояло долго работать.
Помимо мартовской общефлотской оперативной игры, в период с 8 по 12 апреля 1937 г. на КБФ была проведена фронтовая двухсторонняя оперативная авиационная игра на тему «Поиск и уничтожение боевых кораблей и транспортов противника в море в значительном удалении от своих баз с преодолением противодействия противника и одновременном решении задачи по отражению воздушных налетов на наши базы и аэродромы » с участием штабов ВВС Ленинградского военного округа (ЛВО) и КБФ. К игре были привлечены командиры авиасоединений и частей ЛВО и флота, а также командиры общевойсковых и авиационных штабов [31].
Оставляя в стороне общий ход игры, совпадающий во многом с общефлотской игрой, стоит сосредоточиться на основных выводах, сделанных после ее проведения руководителем игры, начальником 1-го отдела штаба КБФ, капитаном 3 ранга В. 3. Роговешко.
Уже в самом начале своего отчета В. 3. Роговешко констатировал довольно безрадостную картину общего уровня руководства «красной» стороны: «Дважды в этом году я присутствую на больших оперативных играх , на которых оба раза задача по борьбе и уничтожению транспортов с экспедиционными войсками, перевозимых морем с территории коричневых на территорию синих и желтых, - возлагалась на авиацию фронта, которая оба раза с возложенной задачей не справилась» [32] . Далее В.З. Роговешко подчеркивает, что «особенно ярко это выявлено на последней игре 7- 13.4.37, когда авиация фронта благодаря своей занятости по борьбе с ВВС противников, поддержке сухопутных войск на фронтах и неумению правильно организовать длительной операции из-за недостаточного, по-видимому, знакомства с морскими особенностями, ни одного транспорта с войсками не утопила» [33] . Мнение руководителя игры об общем уровне командования обеих («красной» и «синей») сторон отражено в документе следующим образом: «_ Как правило, на протяжении всей игры командующий «красным» флотом плохо и с большим нажимом оформлял документы (свои решения). Лучше в этом отношении работал командующий коалиционным флотом » [34].
Вот таким безрадостным было начало летней кампании на Балтике. Все же существовала надежда на то, что в результате исправления допущенных ошибок показатели боеготовности КБФ к концу года значительно улучшатся. Но тут в ход текущих учений флота вмешалась большая политика: начались массовые репрессии на флоте. В результате проведенной Особым отделом НКВД «чистки» рядов командно-начальствующего состава были арестованы командующий флотом флагман 1 ранга А.К. Сивков, его заместитель флагман 2 ранга Г.П. Галкин, командующий ВВС флота комдив М.А. Горбунов и ряд других флотских командиров и военачальников. Как оказалось, эти потери были невосполнимыми, и оказали решающее значение на боеготовность КБФ в последующий период.
Командующим КБФ 15 августа 1937 г. был назначен капитан 1 ранга И.С. Исаков (приказ НКО СССР №3314/л) [35]. Начальником штаба флота тогда же стал капитан 1 ранга Г.И. Левченко [36]. Произошли и другие перемещения комсостава флота с одной должности на другую. Именно в таком обновленном составе командованию КБФ пришлось проводить в последней декаде августа 1937 г. важные учебные мероприятия – большие отрядные учения (БОУ) № 1 (проходило 21 августа) и №2 (20 августа). Тема БОУ №1 была сформулирована следующим образом: «Оборона базы с моря, воздуха и суши от внезапного нападения и ведения глубокого боя на оборонительном рубеже в своем укрепленном районе днем» [37] . Опуская описание всех перипетий учебных боев, остановимся на итогах БОУ № 1.
Разбирая действия сторон на игре, руководство пришло к неутешительным выводам. Основные нарекания вызвали действия стороны «А», игравшей за СССР (командующий – командир бригады линкоров капитан 1 ранга К.И. Самойлов). Практически все этапы учения сопровождались многочисленными недостатками, повлиявшими в конечном итоге на общий неудовлетворительный результат БОУ №1.
Общий вывод, сделанный начальником штаба КБФ капитаном 1 ранга Г.И. Левченко по итогам БОУ №1, гласил: «Поставленные на БОУ-1 задачи полностью не отработаны, выявлено много ошибок и недочетов, для устранения которых требуется повторение БОУ № I» [38].
Как уже отмечалось выше, помимо БОУ № 1, почти одновременно с ним на Балтике было проведено большое отрядное учение № 2, тема которого была определена как «Удар авиацией и ПЛ по охраняемым ТР противника в отдаленном районе Финского залива днем»» [39].
Не рассматривая подробно ход событий на игре, отметим основные достижения и недостатки, проявленные командирами сторон. В отличие от БОУ-1 на этом учении действия «красной» стороны («А») заслужили, в основном, положительную оценку. Например, разведывательные действия ПЛ были выполнены удовлетворительно, «при соблюдении скрытности и достаточной точности». С атаками ПЛ дело было хуже: ни одна лодка 15-го дивизиона не смогла выйти в атаку по причине неправильного выбора курсовых углов. Зато в 12-м ДПЛ все подлодки сумели произвести атаки, хотя с помощью наведения с самолета действовала, лишь одна ПЛ [40]. Действия ВВС на учении тоже были оценены достаточно высоко.
В целом, как посчитало командование КБФ, БОУ № 2 было проведено удовлетворительно. По мнению начальника штаба флота капитана 1 ранга Г.И. Левченко, «поставленные учебные цели достигнуты» [41].
Крайне поучительным эпизодом оперативной и боевой подготовки личного состава КБФ в 1937 г. стало малое отрядное учение (МОУ) № 4б, проводившееся 9-10 августа. Учение осуществлялось с участием всех сил КБФ, за исключением подлодок и авиации, и преследовало исключительно одну цель – отработку техники посадки и высадки Кронштадтского стрелкового полка с транспортных средств КБФ на побережье. Общего руководства действиями сторон на учении не было, как не было и общего плана учения. Это обстоятельство было обусловлено арестом 1 августа 1937 года бывшего командующего КБФ флагмана 1 ранга А.К. Сивкова. В течение двух недель следователи Особого отдела НКВД КБФ пытались сломить его сопротивление, и только к концу этого срока смогли добиться желаемого результата – самооговора. Потому-то, и не было руководства учениями МОУ № 4 б.
На самом десантном учении обнаружилась поистине неутешительная картина состояния дел в этой области. Не скрывая своего разочарования итогами десантного учения, командир Кронштадтского стрелкового полка полковник В. К. Зайончковский признал в своем отчете, что оно «прошло недостаточно организованно и не дало ожидаемых результатов» [42].
Результаты десантного учения настолько удручили коменданта Кронштадтского укрепленного района КБФ комбрига И. С. Мушнова, что он заявил в своем докладе командующему флотом о нецелесообразности проведения подобных учений в дальнейшем. Причиной для столь серьезного утверждения было то, что по его словам, «никакого опыта из проводимых ежегодно десантных учений извлечь нельзя, кроме того, как не надо проводить десантные операции», а само учение «ничего поучительного не дало и дать не могло при таком руководстве» [43] . Однако командующий КБФ флагман 2 ранга И. С. Исаков не согласился со столь пессимистическим выводом и поручил Мушнову для начала обучить высадке Отряд учебных кораблей и провести с ним десантное учение [44].
Однако самым важным мероприятием на КБФ в 1937 году стали маневры, проведенные в период с 5 по 8 октября. Темой маневров была определена «Операция Краснознаменного Балтийского флота по срыву оперативных перевозок противника в Балтийском море и расширению оперативной зоны восточной части Финского залива » [45].
Несмотря на множество отдельных недостатков, итоги маневров были оценены штабом КБФ достаточно высоко. В частности, в отчете было отмечено, что «были недочеты, но в общем маневры этого года прошли лучше, слаженнее, чем когда бы то ни было » [46]. В данном случае мы имеем дело с попыткой «залакировать», как тогда говорили, существующую действительность, так как действия командующего флотом, «красных» капитана 1 ранга К.И. Самойлова были явно ошибочными: он направил свои линкоры прямо в центр развертывания групп линкоров «коричневых», тем самым позволив противнику охватить голову своей колонны и подвергнуть ее сосредоточенному обстрелу всей неприятельской артиллерией. В результате линкоры «красных» в этой ситуации могли использовать только носовые башни главного калибра. Решение комбрига линкоров «красных», определяющее направление главного удара, было принято лишь после нахождения в течение 17 минут под огнем противника [47]. В противоположность этому командующий флотом «коричневых» капитан 1 ранга А.А. Кузнецов действовал верно, и маневрировал на выгодных для себя курсовых углах и дистанциях. В целом командующий флотом «красных» «не целеустремил и не нацелил атаку, не дал указаний командиру 2 ЛК и флагману легких сил об идее своего решения». Дело осложнялось тем, что еще до операции командиру бригады линкоров не удалось добиться у командиров единого понимания поставленной задачи и способов ее решения, а запланированный предварительный проигрыш так и не состоялся [48].
С учетом вышеизложенного, самооценка своих действий командованием КБФ выглядит явно завышенной. В соответствии со сложившимися традициями рапортовать об успехах руководству партии и правительства, командование КБФ считало, что если маневры будут продолжены в том же русле, то « достижения будут по-настоящему хорошие » [49]. Поэтому неудивительно, что « угару перестройки » образца 1937 года поддался и начальник штаба Военно-Морских Сил (ВМС) РККА капитан 1 ранга В.П. Калачев, который выдал следующее заключение по проведенным на Балтике маневрам: «Маневры показали хорошую организованность учений, ряд достижений в боевой подготовке соединений и кораблей, отсутствие аварий и поломок в течение длительного свыше 3-х суток похода» [50]. Однако в данном случае, скорее всего, командования КБФ и ВМС РККА просто выдавали желаемое за действительное и искусственно завышали якобы достигнутый уровень боевой подготовки флота. Иначе в следующем 1938 году Балтийский флот не имел бы столь низких результатов в ходе проведения различных учебно-практических мероприятий.
Как видно из вышеприведенных данных об итогах боевой учебы КБФ в 1937 году после проведения первого этапа политических репрессий, направленных против наиболее опытных и подготовленных кадров командно-начальствующего состава флота, нанесенный удар « карательных органов НКВД - боевого отряда партии» был сокрушительным и оказал решающее значение на катастрофическое падение профессионального управленческого уровня оставшихся «у руля флота» выдвиженцев из числа пролетарских кадров – выпускников Военно-морского училища им.М.В. Фрунзе.