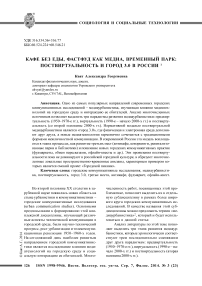Кафе без еды, фастфуд как медиа, временный парк: поствиртуальность и город 3.0 в России
Автор: Квят Александра Георгиевна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социология и социальные технологии
Статья в выпуске: 3 (23), 2014 года.
Бесплатный доступ
Одно из самых популярных направлений современных городских коммуникативных исследований - медиаурбанистика, изучающая влияние медиатехнологий на городскую среду и интеракцию ее обитателей. Анализ многочисленных источников позволяет выделить три парадигмы развития медиаурбанистики: предвиртуальность (1950-1970-е гг.), виртуальность (1990-е - начало 2000-х гг.) и поствиртуальность (со второй половины 2000-х гг.). Нормативной моделью поствиртуальной медиаурбанистики является «город 3.0», где физическая и электронная среда дополняют друг друга, а новые медиатехнологии гармонично сочетаются с традиционными формами межличностной коммуникации. В современной России эта модель воплощается в таких процессах, как развитие третьих мест (антикафе, коворкинги, ревитализованные парки и библиотеки) и появление новых городских коммуникативных практик (фудмаркеты, обмен пересказами, офлайн-квесты и др.). Эти проявления поствиртуальности пока не доминируют в российской городской культуре, а образуют многочисленные локальные пространственно-временные анклавы, характерным примером которых является омский проект «Городской пикник».
Городские коммуникативные исследования, медиаурбанистика, поствиртуальность, город 3.0, третьи места, антикафе, фудмаркет, офлайн-квест
Короткий адрес: https://sciup.org/14974641
IDR: 14974641 | УДК: 316.334.56+316.77
Текст статьи Кафе без еды, фастфуд как медиа, временный парк: поствиртуальность и город 3.0 в России
Во второй половине XX столетия в зарубежной науке появилась новая область на стыке урбанистики и коммуникативистики – городские коммуникативные исследования (urban communication studies). Основными предпосылками к формированию этой комплексной дисциплины, изучающей различные аспекты человеческой коммуникации в городской среде, были научно-технический прогресс, рост урбанизации и телекоммуникационная революция 1950–1960-х годов. На сегодняшний день наиболее развитым направлением городской коммуникативис-тики является исследование влияния медиатехнологий на городскую среду и социальную интеракцию ее обитателей. Много- численность работ, посвященных этой проблематике, позволяет выделить их в отдельную субдисциплину в рамках более широкого круга городских коммуникативных исследований. В качестве названия этой субдисциплины можно предложить термин «ме-диаурбанистика»2, который и будет использоваться в данной статье.
Анализ литературы по этой теме позволяет выделить три этапа развития медиаурбанистики, которые хронологически соответствуют трем последовательно сменявшим друг друга парадигмам: предвиртуальность (1950–1970-е гг.), виртуальность (1990-е – начало 2000-х гг.) и поствиртуальность (вторая половина 2000-х гг.).
-
I. Предвиртуальность: 1950–1970-е годы. В этот период появляются первые углубленные исследования влияния медиатехнологий на городскую жизнь. Хотя в этих работах еще не использовалось понятие виртуальности, медиаурбанистам первой волны удалось наметить те фокусные точки, из которых впоследствии выросла проблематика исследований 1990-х – начала 2000-х годов. В частности, ученые 1950–1970-х гг. рассматривали роль медиатехнологий в таких процессах, как увеличение коммуникативных перегрузок горожан [18; 37; 51]; развитие современной городской цивилизации [33; 36], изменение восприятия категорий пространства и времени [14], освобождение социальных связей от географической привязки [54], кризис неопосредованной (то есть такой, в которой не участвуют СМИ и технические устройства) межличностной коммуникации в публичном пространстве, развитие при-ватизма и пассивности [23; 46].
В следующем десятилетии развитие медиаурбанистики несколько замедлилось: заметно сократилось количество публикаций соответствующей тематики, в США закрылись два крупных профильных исследовательских центра. По всей вероятности, это затишье было связано с тем, что кризис публичной сферы, отмеченный еще учеными 1970-х гг., к 1980-м только усугубился. Кроме того, к этому времени окончательно угас тот мощный импульс глобальных социокультурных изменений 1950– 1960-х гг., под влиянием которого и возникла медиаурбанистика. Следующим стимулом такой же силы стала только компьютерная революция 1990-х – начала 2000-х годов.
-
II. Виртуальность: 1990-е – начало 2000-х годов. Широкое распространение персональных компьютеров и домашнего Интернета в этот период привело к заметной радикализации концепций упадка публичной сферы и кризису традиционной городской коммуникации. Тренд приватизма предельно усиливается [20; 43], улица перестает быть местом встречи и общения [26], публичная коммуникация перемещается в закрытые пространства – кафе, моллы, спортивные и развлекательные центры [35]. Но, безусловно, главной темой медиаурбанистики 1990-х – начала 2000-х становится разрыв реального и виртуального городского пространства. Появляет-
- ся множество работ, посвященных аспатиаль-ности современного города [22; 55], то есть ослаблению роли физического городского пространства по сравнению с виртуальным (от англ. non-spatiality, букв. «непространствен-ность»). Возникают синонимичные концепции «кибергорода» [13; 26; 38], «цифрового города» [31], «информационного города» [15], «эфемерного города» [39]. Согласно определению К. Бойер, «кибергород превращает реальность времени и пространства в воображаемую матрицу компьютерных сетей, связывающих электронным способом отдаленные точки земного шара, коммуницирующих нелинейно при помощи огромных объемов информации, хранящихся в виде кодов» [13, с. 115].
Еще одной отличительной чертой медиаурбанистики 1990-х – начала 2000-х является принятая по умолчанию установка, согласно которой живая межличностная коммуникация в городской среде навсегда ушла в прошлое, став в лучшем случае предметом ностальгии или источником метафор для описания нового типа городского пространства. В качестве примера можно привести две характерные цитаты. Авторы первой из них, Г. Гум-перт и С. Дракер, говорят о традиционной уличной коммуникации как об «уходящей натуре»: «Полнокровная социальная жизнь в окружении оживленных улиц, рынков, парков, бульваров и скверов всегда была определяющей характеристикой городской культуры. Но современные медиатехнологии, от телефона до компьютера и кабельного телевидения, вытесняют коммуникацию из городской среды в пространство организаций и малых социальных групп» [26, с. 250]. Вторая цитата – отрывок из книги У. Митчелла «City of Bits» («Город из битов»), где метафора идеального городского парка используется для описания образцовой модели комфортной и дружественной среды в веб-пространстве: «Интерфейс публичных киберпространств должен быть похож на хороший парк или сквер, куда приятно зайти и где хочется провести время. Заумный, сложный, непонятный простому пользователю интерфейс – такой же барьер, как лестница без пандуса для посетителя парка в инвалидной коляске. Люди должны ощущать комфорт и безопасность, отсутствие враждебности, агрессии, угрозы нападения» [38, с. 128].
Таким образом, оппозиция реальное/вир-туальное в литературе этого периода однозначно трактовалась как радикальное противоречие, разрешить которое удалось только во второй половине 2000-х годов.
-
III. Поствиртуальность: со второй половины 2000-х годов.
Третий этап развития медиаурбанистики связан с распространением беспроводных технологий, мобильных устройств и так называемых локативных медиа, способных определять местоположение пользователя в пространстве. Во второй половине 2000-х гг. появилось огромное количество работ, исследующих влияние мобильных телефонов, аудиоплейеров, технологий wi-fi и GPRS на коммуникацию в публичном городском пространстве [21; 27; 28; 32; 42]. Одной из самых популярных тем научных и общественно-политических дискуссий стала концепция «умного города» [29; 47; 52]. В некоторых источниках вместо этого названия используется формулировка «убиквитарный город» (англ. – ubiquitous city и ubiquitous computing – полная, повсеместная компьютеризация городской среды) [12; 48; 50]. Результатом проникновения новых медиатехнологий в физическую городскую среду стала смена парадигмы медиаурбанистики: если в 1990-х – начале 2000-х гг. реальный город противопоставлялся виртуальному, то сейчас такой бинарный подход подвергается критике [17]. В работах последних лет городское пространство описывается как гибридное и многослойное:
«Гибридные пространства возникают, когда виртуальные сообщества, ранее существовавшие в пределах киберпространства, благодаря использованию мобильных технологий перемещаются в физические пространства» [49, c. 261];
«Умные устройства позволяют людям присутствовать в нескольких местах одновременно, в то же время передвигаясь по физическому городскому пространству и при этом перемещаясь между несколькими технологи-чески-опосредованными социальными ситуациями» [45, c. 439];
«Физическое и виртуальное в городском контексте нельзя понимать как отдельные сферы, они должны быть концептуализированы в связке друг с другом» [44, c. 524];
«Использование портативных медиаустройств создает смешанные пространства на пересечении онлайн- и оффлайн-миров» [53, c. 559].
Концепции кибергорода/цифрового/ин-формационного города, как и вся парадигма чистой виртуальности, постепенно уходят в прошлое. Новой нормативной моделью современного города становится «tertium quid city» (лат. tertium quid – нечто третье, среднее, промежуточное; «город третьего типа»). Этот термин, предложенный в 2005 г. исследователями городской коммуникации Г. Гумпертом и С. Дракер, означает такой тип города, где физическая и электронная среда дополняют друг друга, а новые медиатехнологии гармонично сочетаются с традиционными формами межличностной коммуникации [25, c. 21]. Согласно образному определению Гумперта и Дракер, это сочетание дает возможность «одновременно наслаждаться цифровым ландшафтом и магией тротуара» [19, c. 436]. Поскольку латинизм «tertium quid» в русском языке используется редко, для обозначения этой урбанистической модели можно предложить более релевантный термин «город 3.0» – по аналогии с актуальным на сегодняшний день понятием «web 3.0», которое в одной из трактовок [40] означает взаимодействие Интернета с физическим пространством.
В мировой практике есть множество успешных примеров реализации этой концепции (скандинавские и южнокорейские проекты по созданию «умных городов», финский город Оулу, британский Монмут, позиционирующийся как «первый город, подключенный к Википедии», и т. д.). Поскольку эти кейсы хорошо известны в профессиональном сообществе урбанистов, в данной статье речь пойдет о том, как проявляется поствиртуальная тенденция в российских городах. Но прежде чем перейти к конкретным примерам, необходимо сделать одно пояснение. Если вернуться к определениям поствиртуального города, можно обнаружить в них два аспекта. С одной стороны, «город 3.0» отличается тем, что медиатехнологии в нем как бы пропитывают физическое пространство. С другой стороны, это такой город, в котором созданы комфортные условия для живой, неопосредованной, «офлайновой» коммуникации горожан, то есть, по метафоре Гумперта и Дракер, «магия тро- туара» в таком городе не является второстепенным условием, своеобразным экзотиконостальгическим приложением к «цифровому ландшафту». В то время как первый признак поствиртуальности только начинает реализовываться на практике в российских городах 3, второй критерий проявляется весьма интенсивно и разнообразно, причем упомянутую в нем комфортную среду в большинстве случаев горожане создают для себя сами. В современной России модель «город 3.0» воплощается в таких процессах, как развитие третьих мест и появление новых городских коммуникативных практик.
-
1) Развитие третьих мест. Термин «третье место» был введен в 1989 г. социологом города Р. Олденбургом как противоположность двум другим типам пространства – домашнему и рабочему. К третьим местам Олденбург относит пространства, предлагающие уют вне дома и новые интересные контакты вне работы, – кафе, пабы, кофейни, парки и т. д. Согласно его теории, третье место должно быть открытым, доступным, нейтральным, демократичным и комфортным, основным занятием здесь является общение [41]. В последние 2–3 года в российских городах наблюдается настоящий бум третьих мест. Наиболее популярными форматами таких пространств стали коворкинги (комфортные пространства для удаленной работы вне офиса) и антикафе (в качестве альтернативных названий этого формата иногда используются термины «тайм-кафе», «свободное пространство», «креативное пространство» и т. п.). В отличие от коворкингов, идея которых была заимствована из западной практики, антикафе представляют собой чисто российское изобретение, не имеющее точных аналогов в зарубежных городских культурах [6, c. 353]. Как следует из приставки «анти», в такие места приходят не за едой, а за общением и всевозможными видами «умного досуга», к которым можно отнести настольные игры, просмотр фильмов, лекции, мастер-классы, воркшопы, концерты, выставки. Обязательные атрибуты антикафе – свободный доступ к wi-fi, бесплатные чай, кофе и вода (иногда – легкие закуски), запрет на курение и употребление алкоголя 4. Таким образом, посетители оплачивают только про-
- веденное в антикафе время. В некоторых местах такого типа совмещаются функции антикафе и коворкинга.
К перечню популярных российских форматов третьего места также стоит добавить ревитализованные 5 парки и библиотеки, хотя связанные с ними организационные и финансовые затраты пока не позволяют считать их по-настоящему распространенной практикой. Пожалуй, самый яркий пример ревитализован-ного парка – обновленный в 2011 г. ЦПКиО им. Горького в Москве [4]; подобные проекты были впоследствии реализованы и во многих других московских парках. Столичные библиотеки (Российская государственная библиотека для молодежи, библиотека «Проспект», Библиотека им. Ф.М. Достоевского и др.) также становятся полноценными третьими местами: благодаря усилиям Московского городского библиотечного центра в них появляется wi-fi, радикально меняется атмосфера и интерьер, расширяется набор их функций [2; 3; 11]. Этот опыт постепенно начинают перенимать и в других российских городах – разумеется, с некоторыми отличиями в бюджете и масштабах реконструкции, но, тем не менее, тенденция к переосмыслению роли библиотеки в современном российском городе очевидна.
-
2) Новые городские коммуникативные практики. Во второй половине 2000-х гг. в российских городах возникло множество новых коммуникативных практик разной степени популярности [6; 7]. Некоторые из них получили весьма широкое распространение (буккроссинг, фримаркеты, активные городские игры), другие оказались уникальными феноменами (протестные митинги, «Большой белый круг», контрольные прогулки и лагеря «Оккупай» в 2011–2012 гг.), третьи пока остаются локальными явлениями, что, однако, не делает их менее интересными с точки зрения медиаурбанистики. Характерный пример такой практики – обмен пересказами, организуемый московским сообществом «Курилка Гутенберга» [8]. Участники этого проекта регулярно проводят неформальные встречи, на которых каждый желающий может пересказать любую научно-популярную книгу по собственному выбору или принять участие в свободном обсуждении. От обыч-
- ных книжных клубов «Курилка Гутенберга» отличается идеологически: проект был задуман как эксперимент с форматами коммуникации, а само его название (И. Гутенберг – изобретатель книгопечатного станка) и миссия («массовое изгнание из рая уединенного чтения в чистилище публичного пересказа») отсылают к идеям известного медиатеоретика М. Маклюэна.
В 2013–2014 гг. список новых практик городской коммуникации пополнили фудмар-кеты и квартирные квесты. Фудмаркет (альтернативные названия такого типа мероприятий – «фестиваль уличной еды», «ярмарка уличной еды», «городской маркет еды», «фестиваль pop-up кафе») – это самоорганизован-ная импровизированная уличная ярмарка качественного фастфуда. Это явление, в 2013 г. ставшее одним из самых модных московских развлечений, возникло как альтернатива массовой продукции сетевых закусочных и дорогим ресторанам авторской кухни. Примечательно, что организаторами и участниками российских фудмаркетов в большинстве случаев являются не профессиональные повара, а кулинары-любители – как правило, представители творческих профессий (журналисты, рекламщики, дизайнеры). Анализ многочисленных интервью с активистами этого движения показывает, что его основная идея – это не только и не столько вкусная еда, сколько создание комфортного коммуникативного пространства в большом городе:
«История про маркеты – это история про общечеловеческий досуг. Ты берешь мужа, собаку, коляску, идешь встречаться с друзьями и весело проводить время. Москвичи хотят жить как нормальные люди» [5].
«Люди стали динамичнее и любопытнее, конечно, на что и Интернет повлиял, и открытые границы. И теперь люди не готовы тратить такое большое количество времени на рассиживание в ресторанах. Они хотят классной еды от классного человека, с которым можно перекинуться парой фраз, поднять себе настроение и быть в курсе событий, а также встретить там буквально в дверях таких же, как и они сами, продвинутых динамичных людей» [там же].
«Не жалейте время на разговоры и объяснения. Улыбайтесь. Высказывайте ком- плименты своим клиентам и желайте им удачного дня. У нас под конец дня устали не ноги, а голосовые связки» [9].
Если фудмаркеты пока остаются скорее столичным феноменом, то пришедшая в Москву в конце 2013 г. зарубежная традиция квартирных квестов (другие названия – эскейп-игры, эскейп-румы, офлайн-квесты) моментально стала популярной и в других российских городах. Квартирные квесты, представляющие собой поствиртуальную версию традиционного субжанра компьютерных игр «выход из комнаты» (англ. escape game и room escape ), можно назвать вторым поколением активных городских игр, первой разновидностью которых были командные уличные квесты начала и середины 2000-х годов. Такие игры предполагали перемещение в городском пространстве и совместное решение задач, связанных с логикой, ориентированием и коммуникативными навыками (самые известные примеры – придуманный в Белоруссии «Эн-каунтер» и российская игра «Дозор»). У квартирных и уличных квестов много общего: и те, и другие позиционируются в качестве альтернативы виртуальным играм, построены на одних и тех же эффектах (интеллектуальное напряжение, эмоциональная разрядка, сплочение, возможность найти новых друзей). Главное их отличие заключается в том, что участники квартирного квеста должны выбраться из закрытого помещения, оборудованного в соответствии со сценарием игры («Советская квартира», «Лифт», «Отделение милиции», «Матрица», «Спасти Джона Леннона» и т. п.). Поэтому термин «офлайн-квест» применительно к эскейп-румам представляется не вполне корректным – это скорее более общее родовое понятие, объединяющее квартирные игры с уличными.
Сравнительный анализ примеров, иллюстрирующих поствиртуальную волну в современной российской городской культуре, обнаруживает следующую закономерность: несмотря на то что эти новые места и практики идеологически ориентированы на возрождение неопосредованной, «офлайновой» коммуникации, все они так или иначе построены на гибридных отношениях реальности и виртуальности, то есть вполне соответствуют критериям нормативной модели «город 3.0».
В третьих местах бесплатный wi-fi работает как важный средообразующий фактор; участники обменов пересказами и фудмар-кетов находят друг друга и координируют совместную деятельность при помощи социальных медиа; уличные квесты невозможны без использования геолокационных сервисов и мобильного Интернета, а организаторы квартирных квестов обязательно контролируют ход игры при помощи веб-камер (кроме того, в некоторых эскейп-румах задействованы шлемы виртуальной реальности, как, например, в санкт-петербургском квесте «Киберпанк» от компании Lostroom). С другой стороны, нельзя сказать, что вышеперечисленные проявления поствиртуальности являются доминантой современной российской городской культуры. Пока это всего лишь локальные (хотя и многочисленные) пространственно-временные анклавы, подобные тому, что урбанист Дж. Хоу называл «альтернативными городами в рамках уже существующего города» [30, c. 2], а философы М. де Серто и А. Лефевр – «дырами в решете принятого в городе порядка» [16, c. 96], свободными для использования лакунами городской системы [34].
В заключение рассмотрим еще один интересный пример такого анклава – омский проект «Городской пикник», который сложно однозначно квалифицировать как пространство или практику. Омский городской пикник (далее – ОГП) – это бесплатное массовое мероприятие на открытом воздухе, которое раз в год организуется группой гражданских активистов без какого-либо участия властей. ОГП происходит на территории частной базы отдыха недалеко от центра города, средства на аренду и некоторые другие статьи расходов (подготовка газонов, сцена, оформление площадки, охрана, биотуалеты, вывоз мусора и др.) собираются при помощи краудфандинга в социальных медиа. Проект существует с 2012 г., на сегодняшний день прошло уже три таких мероприятия. Основные принципы ОГП – добровольность, самоорганизация и личная инициатива, самоокупаемость, отсутствие возрастных ограничений, запрет на алкоголь, табак и политику [10].
Программа пикника включает выставки, перфомансы, концерты, игротеки, танцеваль- ные и детские площадки, лекции и мастер-классы, буккроссинг и фримаркет. Кроме того, авторам проекта удалось привлечь нескольких коммерческих спонсоров, которые, среди прочего, предоставили полное wi-fi-покрытие территории. В результате ОГП превратился в эталонное гибридное пространство, где возможна как онлайновая коммуникация посредством беспроводного интернет-соединения, так и офлайновое общение, причем не только в обычном живом формате, но и при помощи специальной экспериментальной доски под названием «Социальная сеть», на которую посетители пикника могут наклеивать стикеры с любыми надписями (автор идеи – художник С. Баранов). Вот несколько примеров этих «бумажных твитов»:
@Black123Hole / Человек c футболкой MUSE!! Найди меня в тви!
Конь в пальто – это герой!!!
Сальникова Анна упала в яму!
Ооочень классная лекция про кино. Нолюди не дружат с микрофоном [44].
Хотя организаторы называют ОГП «первым городским праздником, организованным городским сообществом, без администраций и корпораций, <…> на котором общими силами на один день в городе создается приятное, интересное и красивое общественное пространство» [10], на самом деле он представляет собой нечто большее, чем просто праздник. По сути, это парк-симулякр, парк-эфемерида, временный однодневный парк, возникший в депрессивной атмосфере социокультурного кризиса и упадка городской среды 6. Омск, который в 1967 г. получил статус города-сада, сейчас не имеет ни одного по-настоящему благоустроенного, отвечающего современным требованиям парка; другие типы третьих мест здесь пока не приживаются (несколько попыток открыть антикафе не увенчались успехом из-за отсутствия стабильного спроса на такого рода развлечения), а новые практики городской коммуникации (фри-маркеты, буккроссинг, офлайн-квесты и т. п.) реализуются слишком дискретно и эпизодично. С учетом такой ситуации ОГП представляется весьма удачным и показательным примером воплощения концепции «город 3.0» в условиях современного российского промышленного миллионника.
Список литературы Кафе без еды, фастфуд как медиа, временный парк: поствиртуальность и город 3.0 в России
- Баранов, С. Социальная сеть пикника/С. Баранов//Арт-завод Баранова: блог. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://klaustromax.livejournal.com/78032.html#cutid1/. -Загл. с экрана.
- Вяхорева, В. Новые библиотеки: как изменилась Библиотека имени Достоевского на Чистопрудном бульваре/В. Вяхорева//Афиша-Город: сайт. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://gorod.afisha.ru/archive/biblioteka-dostoevskogo/. -Загл. с экрана.
- Гурова, В. Из библиотек даже перестали воровать книги: интервью с Борисом Куприяновым/В. Гурова//Теории и практики Москвы: сайт. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://theoryandpractice.ru/posts/6555-boriskupriyanov-iz-bibliotek-dazhe-perestali-vorovatknigi. -Загл. с экрана.
- Информация о парке//Парк Горького: сайт. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.park-gorkogo.com/about/. -Загл. с экрана.
- Качаева, И. «Люди хотят классную еду от классного человека, с которым можно перекинуться парой фраз»: Москвичи предпочитают вкусный уличный фастфуд престижным ресторанам/И. Качаева, Е. Барышева//Московские новости: сайт. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.mn.ru/moscow_people/20131009/358340990.html. -Загл. с экрана.
- Квят, А. Г. Новые коммуникативные практики в российских городах/А. Г. Квят//Развитие русскоязычного медиапространства: коммуникационные и этические проблемы: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (26-27 апр. 2013 г.). -М.: Изд-во АПК и ППРО, 2013. -С. 351-360.
- Квят, А. Г. Урбанистика в PR-образовании/А. Г. Квят//Коммуникационная инфраструктура современного города: материалы конф. (3 окт. 2012 г.). -М.: Фак. журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2012. -С. 38-42.
- Курилка Гутенберга: сообщество в социальной сети Facebook. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://www.facebook.com/kurilkagutenberga. -Загл. с экрана.
- Левенец, Д. Проверено: как открыть свое pop-up-кафе/Д. Левенец, И. Качаева//Московские новости: сайт. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.mn.ru/moscow_people/20131010/358667455.html. -Загл. с экрана.
- О фестивале//Городской пикник: сайт. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://2014.picnicomsk.ru/. -Загл. с экрана.
- Поносов, И. Чем заняться в московских библиотеках?/И. Поносов//Партизанинг: сайт. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://partizaning.org/?p=7916. -Загл. с экрана.
- Anttiroiko, A. U-cities Reshaping Our Future: Reflections on Ubiquitous Infrastructure as an Enabler of Smart Urban Development/A. Anttiroiko//AI & Society. -2013. -Vol. 28, iss. 4. -P. 491-507.
- Boyer, M. C. The Imaginary Real World of CyberCities/M. C. Boyer//Assemblage. -1992. -Aug. (no. 18). -P. 114-127.
- Carey, J. W. Harold Adams Innis and Marshall McLuhan/J. W. Carey//Antioch Review. -1967. -Vol. 27. -P. 5-39.
- Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture/M. Castells. -Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell, 1996. -556 p.
- Certeau, M. de. The Practice of Everyday Life/M. de Certeau. -Berkeley, CA: University of California Press, 1984. -256 p.
- Crang, M. Technology, Time-Space, and the Remediation of Neighbourhood Life/M. Crang, T. Crosbie, S. Graham//Environment and Planning. -2007. -Vol. 39. -P. 2405-2422.
- Deutsch, K. W. On Social Communication and the Metropolis/K. W. Deutsch//Daedalus. The Future Metropolis. -1961. -Vol. 90, no. 1 (Winter). -P. 99-110.
- Drucker, S. J. Steps in the Street/S. J. Drucker, G. Gumpert//The International Communication Gazette. -2013. -Vol. 75 (5-6). -P. 430-436.
- Fischer, C. America Calling/C. Fischer. -Berkeley, CA: University of California Press, 1992. -424 p.
- Forlano, L. Anytime? Anywhere?: Reframing Debates Around Municipal Wireless Networking/L. Forlano//The Journal of Community Infromatics. -2008. -Vol. 4, no. 1. -Electronic text data. -Mode of access: http://ci-journal.net/index.php/ciej/article/view/438/401. -Title from screen.
- Garreau, J. Edge City/J. Garreau. -N. Y.: Doubleday, 1991. -576 p.
- Gehl, J. Life Between Buildings: Using Public Space/J. Gehl. -N. Y.: Van Nostrand Reinhold, 1987. -216 p.
- Graham, S. The Cybercities Reader/S. Graham. -L.: Routledge, 2004. -436 p.
- Gumpert, G. Communication and Urban Life/G. Gumpert, S. J. Drucker//Intermedia. -2005. -Vol. 33 (2). -P. 18-23.
- Gumpert, G. The Ur ban Dilemma: A Communication Analysis and a Call for Papers/G. Gumpert, S. J. Drucker//Communication Research. -1994. -Vol. 21. -P. 250-251.
- Hampton, K. N. Community and Social Interaction in the Wireless City: Wi-Fi Use in Public and Semi-public Spaces/K. N. Hampton, N. Gupta//New Media and Society. -2008. -Vol. 10 (6). -P. 831-850.
- Hampton, K. N. The Social Life of Wireless Urban Spaces: Internet Use, Social Networks, and the Public Realm/K. N. Hampton, O. Livio, L. S. Goulet//Journal of Communication. -2010. -Vol. 60. -P. 701-722.
- Hollands, R. G. Will the Real Smart City Please Stand Up?/R. G. Hollands//City. -2008. -№ 12 (3). -P. 303-320.
- Insurgent Public Space: Guerrilla Urbanism and the Remaking of Contemporary Cities/J. Hou (ed.). -Routledge; L.; N. Y., 2010. -289 p.
- Ishida, T. Digital Cities: Technologies, Experiences, and Future Perspectives/T. Ishida, K. Isbister. -Berlin; Heidelberg; N. Y.: Springer-Verlag, 2000. -451 p.
- Ito, M. Portable Objects in Three Global Cities/M. Ito, D. Okabe, K. Anderson//The Reconstruction of Space and Time/ed. by R. Ling, C. Scott. -N. Y.: Transaction, 2008. -P. 67-88.
- Jowett, G. S. The Mass Media and Urban Development: An Historical Overview: Paper, presented at the Annual Meeting of the International Communication Association/G. S. Jowett. -Chicago, 1975 (Apr.). -21 p.
- Lefebvre, H. The Production of Space/H. Lefebvre. -Oxford: Blackwell, 1991. -225 p.
- Lieberg, M. Teenagers and Public Space/M. Lieberg//Communication Research. Special Issue on Urban Communication. -1995. -Vol. 22. -P. 720-744.
- Meier, R. L. A Communications Theory of Urban Growth/R. L. Meier. -Cambridge, Mass.: MIT Press for the Joint Centre for Urban Studies of MIT and Harvard University, 1962. -184 p.
- Meier, R. L. Characteristics of the New Urbanization/R. L. Meier. -Chicago: University of Chicago, 1953. -14 p.
- Mitchell, W. J. City of Bits: Space, Place, and the Infobahn/W. J. Mitchell. -Cambridge: MIT Press, 1995. -225 p.
- Nunes, M. Ephemeral Cities: Postmodern Urbanism and the Production of Online Space/M. Nunes//Virtual Globalizations: Virtual Spaces/Tourist Spaces/ed. by D. Holmes. -Routledge; L.; N. Y., 2001. -P. 57-76.
- O'Reilly, T. Today's Web 3.0 Nonsense Blogstorm/T. O'Reilly. -Electronic text data. -Mode of access: http://radar.oreilly.com/2007/10/todays-web-30-nonsense-blogsto.html. -Title from screen.
- Oldenburg, R. The Great Good Place: Cafés, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons, and Other Hangouts at the Heart of a Community/R. Oldenburg. -N. Y.: Marlowe & Company, 1989. -338 p.
- Powell, A. Wifi Publics: Producing Community and Technology/A. Powell//Information, Communication & Society. -2008. -Vol. 11, no. 8. -P. 1068-1088.
- Putnam, R. Bowling Alone/R. Putnam. -N. Y.: Simon & Schuster, 2000. -541 p.
- Quan-Haase, A. Digital Curation and the Networked Audience of Urban Events: Expanding La Fiesta de Santo Tomaґs from the Physical to the Virtual Environment/A. Quan-Haase, K. Martin//The International Communication Gazette. Special Issue on Mediated Urbanism. -2013. -Vol. 75 (5-6). -P. 521-537.
- Ridell, S. Mediated Urbanism: Navigating an Interdisciplinary Terrain/S. Ridell, F. Zeller//The International Communication Gazette. Special Issue on Mediated Urbanism. -2013. -Vol. 75 (5-6). -P. 437-451.
- Sennett, R. The Fall of Public Man/R. Sennett. -N. Y.: Knopf Inc., 1977. -414 p.
- Shapiro, J. M. Smart Cities: Quality of Life, Productivity, and the Growth Effects of Human Capital/J. M. Shapiro//The Review of Economics and Statistics. -2006. -№ 88(2) (May). -P. 324-335.
- Shin, D.H. Ubiquitous City: An Analysis from an Information Society Perspective: Paper Presented at the International Communication Association Annual meeting/D. H. Shin, Y. Kim. -2009.
- Souza, E. de. From Cyber to Hybrid: Mobile Technologies as Interfaces of Hybrid Spaces/E. de Souza, A. Silva//Space and Culture. -2006. -Vol. 9, no. 3. -P. 261-278.
- Suopäjärvi, T. In the Field of the Ubiquitous City. Suomen Antropologi/T. Suopäjärvi//Journal of the Finnish Anthropological Society. -2010. -Vol. 35, iss. 3. -P. 81-84.
- Toffler, A. Future Shock/A. Toffler. -N. Y.: Random House, 1970. -505 p.
- Townsend, A. Smart Cities. What if the Smart Cities of the Future are Chock Full of Bugs?/A. Townsend. -Electronic text data. -Mode of access: http://places.designobserver.com/feature/smart-citiesbuggy-and-brittle/38111. -Title from screen.
- Waltorp, K. Public/Private Negotiations in the Media Uses of Young Muslim Women in Copenhagen: Gendered Social Control and the Technology-enabled Moral Laboratories of a Multicultural City/K. Waltorp//The International Communication Gazette. Special Issue on Mediated Urbanism. -2013. -Vol. 75 (5-6). -P. 555-572.
- Webber, M. M. The Urban Place and the Nonplace Urban Realm/M. M. Webber//Explorations into Urban Structure. -University of Pennsylvania Press, 1964. -P. 79-153.
- Wellman, B. Physical Place and Cyber Place: The Rise of Networked Individualism/B. Wellman//International Journal of Urban and Regional Research. -2001. -Vol. 25 (June). -P. 227-252.