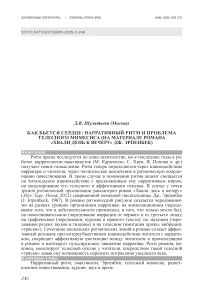Как бьется сердце: нарративный ритм и проблема телесного мимесиса (на материале романа «Хвали день к вечеру» Дж. Эрпенбек)
Автор: Шулятьева Д.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
Ритм прозы исследуется не одно десятилетие, но в последние годы в работах нарратологов энактивистов (М. Караччоло, С. Хвен, Я. Попова и др.) получает новое осмысление. Ритм теперь определяется через взаимодействие нарратора и читателя, через читательское вовлечение в ритмическую координацию повествования. В таком случае в понимании ритма акцент смещается на читательское взаимодействие с предложенным ему нарративным миром, на моделирование его телесного и аффективного отклика. В статье с точки зрения ритмической организации рассмотрен роман «Хвали день к вечеру» (Aller Tage Abend, 2012) современной немецкой писательницы Дж. Эрпенбек (J. Erpenbeck, 1967). В романе ритмический рисунок создается чередованиями на разных уровнях организации нарратива: на композиционном (чередование того, что в действительности произошло, и того, что только могло бы); на повествовательном (чередование наррации от первого и от третьего лица); на графическом (чередование курсива и прямого текста); на звуковом (чередование резких звуков и тишины) и на телесном (имитация дрожи, вибраций, «тряски»). Сочетание нескольких ритмических линий в романе создает аффективный резонанс при интерсубъективном взаимодействии читателя с нарративом, сокращает аффективную дистанцию между читателем и происходящим в романе и имитирует пульсирующее движение нарратива. Ритм романа, наконец, моделирует телесный отклик у читателя, посредством такой телесной «тряски» давая ему возможность пережить потрясения ушедшего века.
Нарративный ритм, энактивизм, эрпенбек, телесный мимесис, разветвленное повествование, курсив, звук в прозе
Короткий адрес: https://sciup.org/149148616
IDR: 149148616 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-246
Текст научной статьи Как бьется сердце: нарративный ритм и проблема телесного мимесиса (на материале романа «Хвали день к вечеру» Дж. Эрпенбек)
Narrative rhythm; enactivism; Erpenbeck; bodily mimesis; forking-path narrative; italics, sound in fiction.
Нарративный ритм в энактивистской перспективе
Ритм прозы исследовался еще формалистами (В.Б. Шкловский, Б.В. Томашевский, Ю.Н. Тынянов) и с тех пор не исчезает из поля зрения ученых-нар-ратологов. Концептуализация этого феномена за последнее столетие, однако, претерпела существенные изменения. Если прежде нарратологи описывали ритм прозы прежде всего с точки зрения структурной организации нарратива, то в последнее десятилетие распространение получает энактивистский подход, рассматривающий ритм в перспективе взаимодействия читателя с нарративным миром.
Это взаимодействие понимается энактивистами как процесс вдействова-ния и вчувствования читателя в нарративный мир, при котором немалое внимание уделяется его телесному опыту, осознанным и неосознанным реакциям и аффектам, которые могут возникнуть в процессе чтения: «Ритм, который создает историю, – это пробуждение (arousal) и разрешение аффекта, паттерн, который запрограммирован биологически. Поэтому мы понимаем истории интуитивно (viscerally), с помощью нашего тела» [Velleman 2003, 13].
Ритм в энактивистской перспективе определяется через взаимодействие нарратора и читателя, именно оно, по Я. Поповой, «лучше всего передается ритмической координацией повествования» (чередованием напряжения и раз- решения, сцен и резюме (в терминах Ж. Женетта), коротких точечных событий и неограниченных по времени пауз) [Popova 2015, 83]. Ритм, в отличие, например, от скорости, создается повторениями внутри текста и внутри сюжета, но он же возникает и при взаимодействии читателя с ними – и в таком случае понятие ритма позволяет осмыслить специфику миметического взаимодействия читателя с нарративным миром (о возможностях различения понятий нарративного ритма и скорости см., например: [Шулятьева 2024]).
Еще Шкловский обращал внимание на «автоматизирующую» силу прозаического ритма [Шкловский 1929, 23]. Ритм в таком случае интересен тем, что способен создавать предсказуемость для читателя, становиться для него незамечаемым, при этом не переставая на него воздействовать («идти под музыку легче, чем без нее; но идти легче и под оживленный разговор, когда акт ходьбы уходит из нашего сознания» [Шкловский 1929, 23]). В перспективе «шага», «ходьбы», «поступи» по нарративному миру рассматривает ритм и современный исследователь Б. Гингрич, в своей работе опираясь уже на Ж. Женетта. Гингрич, говоря о «темпе» ( the pace of fiction ) повествования, видит его как чередование «сцен» и «резюме» и историю литературных форм (прежде всего в XIX в. и в начале XX в.) предлагает рассматривать в этой перспективе [Gingrich 2021]. В работе Гингрича, однако, куда меньшее внимание уделяется читательскому «вольному» взаимодействию с нарративом: читатель, по Гингричу, в процессе чтения следует за сменой способов рассказа, ни на шаг от них не уклоняясь. Нарратологи-энактивисты при рассмотрении ритма предлагают иной способ описания читательского взаимодействия с нарративом. Так, М. Караччоло показывает, как в новелле «Сердце-обличитель» Э. По ритм повествования способен моделировать ответный отклик читателя, как ритмическая организация текста создает напряжение, которое фиксируется (более или менее осознанно) в теле читателя [Caracciolo 2014]. Новелла По наполнена звуками, имитирующими ритмичное движение: звук часов, стук барабана, речь самого нарратора – все это напоминает сердечный ритм, все это напоминает читателю о его уже собственном сердечном ритме, в каком-то смысле возвращает его к собственному телу. По Караччоло, эти приемы создают связь «между ритмом, телесными ощущениями и эмоциональными реакциями» [Caracciolo 2014, 62]. Но размышление Караччоло можно продолжить, если рассмотреть в новелле не одну, а сразу две ритмические линии, которые, к тому же, вступают друг с другом во взаимодействие и тоже резонируют с развитием сюжета.
Такое сочетание двух ритмических линий в новелле По усложняет взаимодействие читателя с историей: он, получается, балансирует между соотнесением себя с героем (он же – нарратор) и с его сердцем, которое в конце концов разоблачает преступление нарратора. При этом взаимодействие с каждой из линий устроено по-разному: в первом случае мы соотносим себя с героем за счет перволичного повествования, но держим дистанцию по отношению к нему, оставаясь в позиции наблюдателя и свидетеля. Во втором случае такое взаимодействие менее опосредованно, поскольку моделируется ритмической структурой текста, которую мы не вполне осознаем, но которая апеллирует к нашим естественным биологическим ритмам. В первом случае поэтому мы оказываемся в ситуации зрительного мимесиса, тогда как во втором – в ситуации телесного мимесиса, предполагающего менее опосредованный и менее осознаваемый отклик на происходящее. Примечательно в связи с этим, что сердце и глаз становятся основными «центрами притяжения» в рассказе (глаз вселяет в нарратора ужас, сердце – его разоблачает).
Такое представление о ритме поэтому ведет и к переосмыслению читательского взаимодействия с нарративом, которое может быть миметическим не только по отношению к герою, но и по отношению к нарратору и к развертыванию истории во времени и его динамике. В таком случае интерес представляет телесный отклик читателя, который моделируется ритмическим рисунком повествования, и эффекты, им производимые. Телесно-миметические отношения между читателем и нарративным миром романа (и его отдельными измерениями) понимаются в перспективе, предложенной, например, кинофеноменоло-гической традицией (В. Собчак, С. Шавиро и др.): миметические отношения между зрителем и фильмом они рассматривают как телесный контакт, в результате которого зритель (опосредованно или, наоборот, почти неопосредованно) воспроизводит телесный опыт персонажа. То же может происходить и с читателем, и не только, как было отмечено прежде, по отношению к герою, с которым он себя может идентифицировать.
Исследования такого телесного отклика предпринимаются (хоть пока и нечасто). Например, Л. Фрост рассматривает телесные эффекты, моделируемые писателями-модернистами (Дж. Джойс, Г. Стайн, В. Вулф). Так, в прозе Стайн она обнаруживает эффект щекотки (Stein’s Tickle), который создается текстуально [Frost 2015]. В этом же поле находятся и исследования гаптиче-ских образов, которые все же в большей степени проводятся (пока) на материале визуальном и звуковом. К исследованию литературного модернизма в этой перспективе обращается А. Гаррингтон, но фактически говорит не о телесном отклике читателя, а о репрезентации телесного опыта героев [Garrington 2013]. Наконец, о связи телесного отклика и ритма пишет кинонарратолог С. Хвен [Hven 2017]. В качестве примера он анализирует известный фильм «Беги, Лола, беги» (1998) Т. Тыквера. Фильм представляет собой разветвленное повествование, то есть предлагает зрителю несколько вариантов одной и той же истории, случающейся с героиней, и ни один из этих вариантов не оказывается привилегированным, то есть не маркируется как «действительно произошедший». Такую нарративную форму Хвен рассматривает с точки зрения ритма: он показывает, как репрезентация физического движения героини, сопровождающие ее движение шумы, а также музыкальные биты и даже периодически мелькающее изображение часов на экране позволяют ввести зрителя в отношения телесного подобия, позволяют организовать воздействие на зрителя за счет ритмических элементов фильма.
Но разветвленная форма получает распространение не только в современном кино, востребована она и в прозе последних десятилетий. Например, в романе «Хвали день к вечеру» (Aller Tage Abend, 2012) немецкой писательницы Дженни Эрпенбек (Jenny Erpenbeck, 1967). Эрпенбек пишет о европейской истории XX в. и предлагает читателю сразу несколько жизней одной и той же героини. Имени героини мы так и не узнаем, лишь в последней главе станет известна ее фамилия (Хоффман), до этого в романе ее будут звать лишь «она» или сокращенно – по первой букве фамилии. Героиня рождается на рубеже XIX и XX вв. (1900/1901) в Галиции, но умирает уже через несколько месяцев, не прожив и года. Она родится вновь – в новой главе – и мы увидим ее уже юной девушкой (только-только исполнилось семнадцать), живущей в Вене, столице Австро-Венгрии на исходе Первой мировой войны. В Вене она вновь погибнет – от случайной или намеренной пули, а оживет уже молодой женщиной, примкнувшей к политическому движению в сталинской Москве. Здесь мы увидим ее за несколько дней до ареста (ее муж уже арестован и убит), она тоже в конце концов погибнет в лагере в полной мерзлоте. Но оживет: и в следующей главе окажется в восточной Германии, завершая свое пятое десятилетие. О ее смерти мы узнаем уже из первых строк главы: а о ее жизни, вновь оборвавшейся, нам теперь расскажет ее еще юный сын (ему теперь тоже семнадцать, как было ей когда-то во второй главе романа). Наконец, она родится снова, и мы вместе с ней, прошедшей почти целый «короткий» XX в., увидим падение Берлинской стены: им закончится и век, и ее «последняя» жизнь.
Даже по краткому описанию сюжета видно, что роман Эрпенбек строится на постоянных чередованиях: от рождения к гибели, от вынужденной остановки к возобновлению движения («поступи» по времени и пространству). Иногда эти моменты удалены друг от друга, иногда – опасно сближаются (как в первой главе, когда героиня умирает еще в младенчестве, или в четвертой, когда мы сразу же узнаем о ее смерти – хотя для нас она только-только ожила). Переходы от одного момента к другому и становятся несущей конструкцией романа. Постепенная прогрессия времени (от 1900 до 1989) и «хождение» по десятилетиям сопровождается и медленным, но верным откатыванием назад, рекурсивным движением. Такое движение, шаг за шагом, в романе предлагается и читателю – но как организован ритм этого романа и встречного по отношению к нему движения? Какими способами создается эта ритмическая прогрессия и какой (читательский) отклик моделирует и предполагает?
Композиция: бывшее и несбывшееся
Ритмическое движение создается на разных уровнях организации романа: композиционном, графическом, звуковом, телесном, повествовательном. Роман разделен на несколько глав («книга I», «книга II», «книга III», «книга IV», «книга V»), и каждая открывает читателю новую жизнь главной героини, а между главами каждый раз появляются «интермеццо», после которых жизнь героини начинается заново. На повторениях и различиях строится и организация событийности в романе: если в основных главах каждая новая жизнь героини показана как действительно случающаяся, то в интермеццо речь идет только о том, что с ней могло бы произойти (если бы она не умерла), но что все-таки не случилось из-за ее преждевременной гибели. Таков композиционный и событийный «рисунок» романа: от актуального читатель движется к виртуальному (к тому, что только могло бы произойти), затем опять возвращается к актуальному, чтобы в интермеццо вновь погрузиться в события, которых не было, но которые могли бы быть.
Такое нарративное движение подкрепляется и тематическим чередованием: жизнь все время сменяется смертью, но смерть никогда не окончательна, она будет вновь отменена новой жизнью героини, она будет вновь опровергнута – за счет ее перерождения. В каждой новой жизни героиня и продолжает свой путь (она заново «рождается» в том возрасте, в котором была бы, если бы не погибла в предыдущей жизни), и варьирует его, сменяя регионы, эпохи, собственную судьбу и людей, в нее включенных. Читатель, в свою очередь, оказывается вовлечен в постоянное движение от одного варианта к другому, от жизни героини к ее неизбежной гибели, от того, что с ней, кажется, действительно произошло (в основных главах), к тому, что только могло бы (и представлено в интермеццо). Но читателю (за счет такой композиционной и событийной структуры романа) предложено и еще одно «колебание»: героиня рождается каждый раз в новом возрасте, и каждый раз скрытым (нерассказанным) поэтому становится все то, что с ней происходило до этого нового рождения.
Так возникает еще одно чередование: от «рассказанного» (и представленного в главах или в интермеццо) – к «нерассказанному», приходящемуся на долю воображения читателя.
Графика: кардиограмма
С точки зрения графического оформления все главы романа включают в себя текст, выделенный курсивом. Интервалы между курсивом и прямым текстом неравномерны, но курсив все время присутствует, не отступает. Объем курсивного текста тоже разнится: выделенными оказываются то отдельные слова, то целые фразы или даже абзацы. Появление курсива в тексте мало предсказуемо для читателя, его функции сменяются: курсив то явным образом указывает на разноречие (« Saj mojchl un fal mir mejne trep nit arunter » [Erpenbeck 2017, 14]), то позволяет напомнить читателю об уже произошедшем, то указывает на звуковое измерение текста (в случае с мелодиями или поэтическим текстом), то отмечает текст, в котором сконцентрированы телесные эффекты. В каждом из этих случаев курсив участвует в создании чередования, задает визуальный ритм и тон повествованию. В большинстве случаев он же соотносится с иными ритмическими линиями романа: звуковыми, телесными, сюжетными. Такое сочетание – когда одна ритмическая линия поддерживает, усиливает другую – позволяет создать аффективный резонанс для читателя, организует для него «моменты интенсивности» (по Х.У. Гум-брехту [Гумбрехт 2006]), в которые контакт с нарративным миром переживается читателем наиболее остро.
Визуальный ритмический рисунок в романе не ограничен лишь курсивами: синтаксический объем фраз (и, соответственно, их визуальное представление) тоже неравномерен; он то нарастает, то убывает, увеличивая и замедляя скорость повествования (и чтения). Визуально такое нерегулярное чередование длинных (привычных) и коротких строк напоминает смену прозаического режима высказывания – поэтическим; оно же участвует в создании ритмического рисунка – если последний понимать буквально, как визуальное представление ритма.
Графическое оформление текста в романе Эрпенбек потому сопоставимо с кардиограммой – она тоже визуально эксплицирует ритм, делает видимым работу сердца, она тоже построена на чередованиях, с необязательно равновеликими интервалами; и пока это чередование отображается визуально, она свидетельствует о продолжении жизни; когда же зубцы превращаются в сплошную линию (так, как курсивы исчезают из промежуточных «интермеццо» между основными главами, например) – жизнь прерывается. Но в романе Эрпенбек после сплошных линий, организованных интермеццо, курсивы возобновляют свой ход по тексту.
В последней главе романа, ближе к его финалу, визуальный ритм только ускоряет свой ход. Сквозной для этой главы становится повторяющаяся фраза «я не знаю»: всего на тридцати трех страницах (249–282) она повторяется более семнадцати раз.
«Я не знаю, почему эти люди собрались здесь вместе», «я не знаю, что делать», «я не знаю, как можно узнать человека», «я не знаю, и вы, вероятно, тоже не знаете» – эти слова «разбросаны» по главе: мелькают то тут, то там в диалогах, воспоминаниях, мыслях главной героини и ее сына, чтобы потом, в финале, собраться вместе в десяток повторенных «я не знаю», выстроенных теперь в столбик, среди которых – «я не знаю, забьется ли мое сердце вновь»:
Я не знаю, как можно узнать человека.
Я не знаю, у кого я могу все это спросить?
Они приходят к нам или уходят от нас?
Я не знаю, что будет.
Я ничего не знаю.
Я не знаю, когда много, а когда – мало.
Я не знаю, что делать.
Я не знаю, где был мой дом.
Я многого не знаю.
Я не знаю, что происходит.
Медленно начинается и медленно прекращается. И я не знаю, что из этого для меня лучше.
Я не знаю, забьется ли мое сердце вновь.
Я не знаю, в чем разница.
Я ее не знаю.
Я ее не знаю и не понимаю.
Я знаю то, что знаю, но все это не связано с именами.
Я думаю, что все это выдумано (gesponnen).
Я думаю, так и есть. [Erpenbeck 2017, 279–280]
Звук: крик и молчание
В первой главе героиня рождается в Галиции, но уже через несколько месяцев умирает. Ее оплакивает мать, семь дней подряд не выходя из дома. Этот дом теперь наполнен тишиной, но она все время прерывается звуками, то возникающими в самом доме, то – вторгающимися извне. Ритмический рисунок первой главы «пишется» на звуковом уровне: тишина сменяется криком, воем, стуком, звоном разбитого стекла, а затем вновь возвращается – и опять, вновь, превращается, но теперь уже в шепот или в гул мыслей, воспоминаний. Так, в тишину дома врывается звон погремушки, с которой еще вчера играл ребенок. Мать берет ее в руки, и она вновь звенит, как звенела и вчера, когда ребенок был еще жив: «Сверху на комоде лежит игрушка с серебряными колокольчиками. Когда она берет ее, звенят колокольчики. Вчера они тоже звенели, когда дочь сама была еще мамой и играла со своим ребенком. Звон не менял своего звучания в течение двадцати четырех часов, прошедших с тех пор» [Erpenbeck 2017, 15]. Звуковой рисунок в изображенной сцене создает конфликт между неизменным положением вещей (игрушка как звенела, так и звенит, что бы ни произошло) и тем, что изменить уже нельзя, – смертью ребенка. В конце концов этот звон прекращается: «Мать кладет игрушку сначала в чемодан, потом закрывает чемодан и поднимает его, она выходит из комнаты, несет чемодан по коридору, мимо дочери, и уносит его в подвал» [Erpenbeck 2017, 16]. Резкий звон, нарушающий тишину, сменяется молчанием, и оно только усиливается, когда мать закрывает окно (избавляя комнату теперь уже не только от «внутренних», но и от «внешних» звуков), и вот тогда – «совсем тихо становится теперь в квартире».
Так в романе тишина сменяется то криком («ночью он кричал на жену <…> но он кричал и потому, что сам не знал средства от смерти» [Erpenbeck 2017, 27]), то звоном часов («когда она встает с табуретки, а затем вновь садится на нее, на кухне становится тихо <…> в салоне маленькие напольные часы громкими, жестяными звонами бьют шесть часов, а затем снова все стихает» [Erpenbeck 2017, 28–29]), то воем – чьим-то, принадлежащим неизвестно кому («он слышит крики и вой, доносящиеся изнутри; это не голос его жены» [Erpenbeck 2017, 33]).
Тишину сменяют не только резкие звуки – хотя преобладают именно они. Слышимыми теперь становятся и те, что в шуме и гуле повседневности в норме не замечаются. Теперь, в этой опустошающей тишине, различимы и робкий звон фарфора, и шелест газетных страниц, и негромкие шаги («она слышит, как люди работают на кухне, она слышит плеск воды, как что-то двигают на столе, она слышит шаги по половицам, звон фарфора…» [Erpenbeck 2017, 28]). Доступ к таким звукам, «чувствительность» к ним – только усиливает контраст между нормой и ее нарушением, между рассеянным и напряженным вниманием, между говорением и молчанием.
Кто слышит эти звуки? К чьему слуху мы, как читатели, получаем здесь доступ? Эти субъекты слушания в главе тоже сменяются, дополняя ее ритмический рисунок: звуки то доступны героине, то – слышимы лишь нарратором и, как следствие, читателем тоже. В первом случае они поэтому являются ди-егетическими, во втором – недиегетическими. Такая терминологическая аналогия выстраивается, если сравнивать звуковой мир литературного произведения с фильмом: в кино различают звуки, внутренние по отношению к миру героев, и звуки, внешние по отношению к ним, но доступные зрителю [Chion 2009, 474, 480]. Чередование на звуковом уровне, получается, происходит и посредством смены диегетических и недиегетических звуков. Оно усиливает то «раскачивание» читателя между разными звуковыми полюсами, которое происходит благодаря смене резких звуков и наступающей после них тишине.
Звучание такой тишины в тексте дополнительно усилено графически: курсивы, встречающиеся в тексте, в этой главе нередко оформляют присутствие звуков (« мертвая тишина » [Erpenbeck 2017, 19] – читаем мы на странице). Курсивы дополняются и короткими строками, напоминающими поэтические, потому выделяющимися на фоне прозаических визуально: фраза «шуршащая газета» не единожды повторяется, выстраиваясь на странице книги в столбик («Шуршащая газета // День, время, дом, похожие на другие. // Шуршащая газета // Если она не хочет, чтобы кто-нибудь об этом узнал, ей следует уйти // Тишина» [Erpenbeck 2017, 55]). Такое графическое оформление производит теперь эффект настойчивого, неизбывного присутствия назойливого звука – от которого как будто бы героине невозможно отвязаться, даже когда этот звук чередуется с другими, в том числе с тишиной.
Такая чувствительность к звукам – не только примета скорби и траура. В сменяющих друг друга плаче и молчании слышимым становится и пульс недавно умершего младенца – он тоже, чтобы заявить о жизни, должен плакать, кричать, а его долгое, затянувшееся молчание – тревожный знак, примета гибели. И неудивительно поэтому, что глава заканчивается мыслью, дребезжащей («то тут, то там одна и та же мысль» [Erpenbeck 2017, 68]) в голове отца погибшего ребенка: «Каким вдруг тихим стал ребенок» [Erpenbeck 2017, 68].
Тело: дрожь и вибрации
Во второй главе романа героиня, уже юной девушкой, оказывается в Вене: заканчивается Первая мировая война, и распад Австро-Венгерской империи кажется уже неизбежным. События, перетряхивающие старую карту Европы, изображаются в романе через репрезентацию телесного опыта героев: они страдают от голода; теряя тепло, замерзают; обессилевшие, раскачиваются в такт ритму поезда («Снаружи такой трамвайный вагон был похож на аквариум;
за запотевшими окнами, когда вагон трогался или тормозил, все люди, переплетаясь, раскачивались взад и вперед, как единый большой организм» [Erpenbeck 2017, 108]); да и город, по которому то и дело блуждает героиня, охвачен вибрациями, землетрясением (« Люди, стоящие на твердой земле, чувствовали, как земля слегка вибрирует » [Erpenbeck 2017, 89]). Это состояние – дрожи, тряски, вибрации – транслируется и читателю теперь уже на текстовом уровне. В этой главе рефренной становится фраза «Два фунта сливочного масла» («…и пятьдесят граммов телятины», «два фунта сливочного масла, пятьдесят граммов телятины и десять свечей» [Erpenbeck 2017, 112–113]), обозначающая цену, которую теперь можно заплатить за избавление от голода и холода; цену, которую случайные прохожие назначают героине за пользование ее собственным телом. Повторениями размечено и изображение ее мыслей, она все время думает об отце («где мог быть отец? В Америке или во Франции?» [Erpenbeck 2017, 120]), но повторения возникают и на рецептивном уровне: в третью главу и, соответственно, третью жизнь героини вдруг врываются фразы, знакомые читателю по второй главе («прикасаться к товару пальцами категорически запрещено» [Erpenbeck 2017, 173]): они создают диалог с предшествующей жизнью героини, включая читателя в происходящее теперь за счет ритмической координации между главами и между жизнями, а не только при помощи ритмических колебаний внутри каждой из них. Дополнительно эффект тряски поддерживается и визуально: курсивами в тексте размечено упоминание вибраций и толчков: они, читаем мы в романе, «были регулярными и беззвучными». Неудивительно поэтому, что вторая жизнь героини прерывается тоже в результате «содрогания» ее тела: в нее, случайно или намеренно, попадает пуля («самоубийца» – случайно говорит врач [Erpenbeck 2017, 124]), и через несколько часов в больнице она умирает, а ее бабушку, которая «ничего не говорит, когда узнает, что произошло», «начинает трясти».
Наррация: от «я» к «другому»
Ритмическое движение в романе создается и чередованием героев, от чьих лиц представлены события. Так происходит и в первой главе (Галиция), чередующей попеременно рассказ то о матери погибшего ребенка, то об отце. Это чередование быстрое, динамичное: на пяти десятках страниц (с одиннадцатой по шестьдесят восьмую страницы) умещается сразу двадцать восемь коротких разделов. Глаз читателя «скачет» от одного к другому, переключается от одного голоса к иному, перемещается из одного пространства (дома) к отличному от него (к кораблю, везущему отца погибшей девочки через Атлантику). По мере продвижения действия и чередования этих разделов дистанция между героями (матерью и отцом) только увеличивается (корабль уходит все дальше, достигая наконец берегов Северной Америки), как увеличивается, вероятно, и амплитуда колебания (читателя) от одного героя к иному, создаваемая таким ритмическим чередованием.
Так происходит, например, и в третьей главе (Книга III): героиня теперь оказывается в сталинской Москве, куда только что эмигрировала из Вены. Ей нужно написать о себе – и это не желание, а необходимость. Ее перволичное письмо то и дело перебивается речью нарратора – теперь уже от третьего лица. Эти чередования часты и малопредсказуемы. Но и собственную перволичную речь героини наполняют чередования: она пишет о бывшем и небывшем, балансируя между собственным представлением о себе и собственным представлением об ожиданиях тех, кто это письмо обязательно прочтет.
По мере продвижения рассказа фразы, которые она попутно вспоминает, становятся все короче: рубленые, не распространенные, они нередко не долетают и до конца строки. Ритмический рисунок этой главы – за счет динамичного, пульсирующего чередования форм повествования – все больше имитирует допрос, в котором сила находится на стороне другого, а сам отвечающий (говорящий, героиня) вынужден подстраивать свою речь, свои ответы и даже свои мысли под него. На то указывает и жанр ее письма: она заполняет анкету («резюме» – написано в романе) для получения советского гражданства; анкета, с одной стороны, сама по себе чередует вопросы и ответы (визуально в романе она не представлена), с другой – предполагает, что пишущий особым образом подстраивает свои ответы под запрос и ожидания того, кто эти вопросы задает. Так происходит и в «московской» главе: героиня пытается писать о себе так, чтобы наконец получить гражданство и тем самым спастись (однажды ей уже отказали), но попутно не может избавиться от воспоминаний, с написанным разнящихся. В результате, глава полнится «дерганьем» собственного «я» от себя к другому, а надежд на спасение у фрау Хоффман (hoffen – надеяться) с каждым новым воспоминанием становится все меньше. Ритмический рисунок этой главы отмечен соединением сразу нескольких линий: в дополнение к пе-ремежению перволичного и третьеличного повествования, вопросов и ответов, коротких и длинных строк, вновь возникает ритм звуковой («когда лифт останавливается на этаже около четырех часов утра, незадолго до восхода солнца, она его не слышит, потому что заснула, сидя за столом, лежа на листах бумаги» [Erpenbeck 2017, 189]) и ритм телесный (указывающий на холод, мерзлоту: «как приятно быть без тела в такой холод», «я замерз до смерти. И ты? Я умираю с голоду» [Erpenbeck 2017, 190]). Эти ритмы, получается, никуда не исчезли после (соответственно) первой и второй главы, они лишь на время – передышка – прервали свои регулярный ход, чтобы продолжить действие вновь. Ровно так же, как в далеком от Галиции, Вены или даже Москвы сибирском лагере в этой главе погибнет героиня, но оживет в главе следующей – вновь обретя дыхание. Финал главы вновь предъявляет читателю соединение всех этих линий, и с ними теперь сплетается размышление о письме («слова из воздуха и слова из чернил»):
Жаль, что нельзя наблюдать тот пограничный момент (die Grenze), когда слова из воздуха и слова из чернил превращаются во что-то реальное, становятся такими же реальными, как мешок с мукой, как толпа, приходящая в смятение, такими же реальными, как звук, с которым замерзшие кости товарища Х. зимой сорок первого года скатываются в яму, этот звук слышен так, как будто кто-то бросает деревянные домино обратно в коробку. Ведь, если достаточно холодно, то, что когда-то было сделано из плоти и крови, звучит точно так же, как дерево. [Erpenbeck 2017, 193]
«Я не знаю, забьется ли мое сердце вновь…»
Ритмическое движение, организованное в романе, предлагает читателю опыт балансирования – между основным действием и промежуточным, актуальным и виртуальным, случившимся и неслучившимся, диегетическим и не-диегетическим. Читательское движение по тексту все время сопровождается такими изменениями, «раскачиваниями», но и повторениями – и именно они позволяют создать такое переживание времени, при котором оно и прогресси- рует, и все-таки стоит на месте (ведь в действительном мире романа не происходит ничего – все остается лишь возможным, хоть и парадоксальным образом переживается читателем как реальное).
Дженни Эрпенбек рассказывает в своем романе историю короткого XX века и предлагает увидеть ее через множество жизней одной и той же героини. Но в большей степени читателю предложено не смотреть на ушедшее время (сохраняя, полагаясь на зрение, дистанцию), а его переживать, возвращаясь к собственному телесному опыту и воспроизводя опыт других. Такое переживание – телесное, аффектированное – моделируется у Эрпенбек благодаря ритмическому рисунку романа, состоящему из множества линий, регулярных и нерегулярных, прерывающихся и продолжающихся вновь. Ритм романа – композиционный, сюжетный, повествовательный, визуальный, звуковой – моделирует телесный отклик у читателя, позволяет ему вместе с героиней переживать смерть (неоднократную), голод, страх, холод, волнение – посредством такой телесной «тряски» давая ему возможность прочувствовать потрясения ушедшего века. Отдельные ритмические линии прерываются, но, как и жизнь героини в романе, возобновляют свой ход: ритм в романе создает пульсирующее движение, обращенное к естественным телесным ритмам любого читателя, не всегда при этом ежесекундно замечаемым и осознаваемым, – к ритму бьющегося сердца, к ритму чувствующего тела.