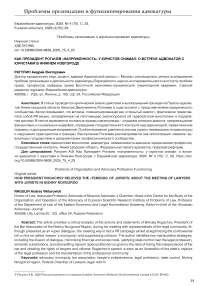Как Президент Рогачев «напряженность» у юристов снимал: о встрече адвокатов с юристами в Нижнем Новгороде
Автор: Рагулин А.В.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Проблемы организации и функционирования адвокатуры
Статья в выпуске: 4 (75), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится критический анализ действий и высказываний президента Палаты адвокатов Нижегородской области Николая Дмитриевича Рогачева в ходе встречи с представителями юридического сообщества. Автор показывает, что встреча, позиционированная как «открытый диалог», фактически представляла собой PR-акцию, направленную на легитимацию законопроекта об «адвокатской монополии» и подавление критики. В тексте выявляются основные приемы манипуляции – создание иллюзии диалога, преуменьшение финансовых и социальных издержек, оправдание государственного контроля над адвокатурой, семантические подмены и дискредитация возражений. Особое внимание уделяется рискам утраты независимости адвокатуры и нарушения прав юристов и граждан. Выступление Рогачева рассматривается как иллюстрация «захвата» адвокатуры государством и дезориентации профессионального сообщества.
Адвокатская монополия, адвокатура, независимость адвоката, юридическая профессия, государственный контроль, Нижегородская область, Федеральная палата адвокатов, правовая реформа
Короткий адрес: https://sciup.org/140312444
IDR: 140312444 | УДК: 347.965 | DOI: 10.52068/2304-9839_2025_75_4_23
Текст научной статьи Как Президент Рогачев «напряженность» у юристов снимал: о встрече адвокатов с юристами в Нижнем Новгороде
Анализ действий и высказываний президента Палаты адвокатов Нижегородской области (ПАНО) Николая Дмитриевича Рогачева в рамках мероприятий, проведенных в Нижнем Новгороде в августе 2025 года [1–3], показывает, что его выступление является классическим примером пропагандистской работы, направленной на подавление критики и легитимацию разрушительной для профессии реформы. Рогачев выступает в роли регионального «успокоителя», чья задача – сгладить острые углы и «продать» «ужасный законопроект» под видом блага, используя при этом весь арсенал манипулятивных техник.
Иллюзия диалога: «сглаживание напряженности» или подавление инакомыслия?
Николай Рогачев позиционирует встречу как «открытый диалог», однако сам же признается, что ее целью не было обсуждение законопроекта, так как «это не наши полномочия». Вместо этого встреча была посвящена пастырским увещеваниям и снятию «напряженности» и «избыточных опасений», которые, по его мнению, «не имеют под собой реальных оснований». Это эталонный образец подмены понятий. Настоящий диалог подразумевает обсуждение спорных моментов, а не монолог одной стороны, которая заранее решила, что все опасения оппонентов «надуманы». Рогачев не ведет диалог, он проводит PR-акцию по принудительной инкорпорации юристов в адвокатуру, заранее объявив все их страхи безосновательными. В материалах о мероприятии прекрасно прослеживается эта уловка: речь идет не о диалоге, а о том, чтобы «усыпить бдительность юридического сообщества», скрывая при этом реформу, которая угрожает их независимости. Уклоняясь от обсуждения вопросов существа и сосредоточившись на «заверениях», Рогачев фактически заставил аудиторию замолчать. Кто-то мог бы спросить, вежливо, конечно, – почему лидер, столь заинтересованный в «диалоге», отказался обсуждать ключевые вопросы законопроекта, такие как беспрецедентный захват государством власти в адвокатуре?
Финансовые сказки: «палатам не нужны Ваши деньги»
Рогачев хвастается богатством НОКА (недвижимость на сотни миллионов, многомиллионные фонды), чтобы развеять «миф», будто юристы нужны, «чтобы кормить адвокатуру». Это классическая тактика отвлечения внимания. Один из мо- тивов руководства ФПА – финансовый: резкое увеличение отчислений от новых членов. Богатство отдельной, исторически сложившейся коллегии в одном регионе никак не отменяет того факта, что юристов ждет резкое увеличение налоговой нагрузки (НДФЛ 13–15 % вместо 4–6 % у самозанятых), а также обязательные взносы на страхование (более 53 000 рублей в 2025 году) и отчисления в палату и ФПА. Рогачев, говоря о «невеликом» размере отчислений, сознательно умалчивает об этих, куда более существенных, неизбежных расходах. Это не развенчание мифа, а создание нового, поскольку юристов, судя по всему, ожидает еще и потеря социальной защиты и налоговых льгот. Оптимистичный бухгалтерский учет Рогачева опускает эти неудобные истины, рисуя картину финансовой стабильности, которая рушится под пристальным вниманием. Если адвокатура так процветает, зачем так спешить пополнять ее ряды неохотными новобранцами? Может ли быть, что ФПА и региональные палаты видят неожиданную выгоду в плате за массовое зачисление и пребывание в адвокатуре? Чтобы «подсластить сделку», Рогачев рассказал о социальных льготах ПАНО: единовременных выплатах адвокатам, попавшим в беду, и ежемесячных стипендиях ветеранам (от 7 700 до 13 000 рублей). Эти «льготы» бледнеют по сравнению с гарантиями защиты труда (больничными листами, пенсиями), которые юристы теряют, когда их переводят из трудовых договоров в адвокатский статус. Избирательная щедрость Рогачева удобно игнорирует этот компромисс, выдавая чистый убыток за прибыль. Интересно, променял бы он преимущества своей работы в органах палаты и крупнейшей в регионе коллегии на «похлопывание по плечу» и подачку в размере 7 700 рублей?
«Безболезненный» экзамен
Успокаивая юристов, Рогачев говорит, что 70 % претендентов успешно сдают экзамен, а в случае неудачи можно через год пересдать, продолжая работать. Это циничная манипуляция. Для многих юристов с дипломом бакалавра переходный период критически мал, так как им необходимо еще два года учиться в магистратуре. Рогачев умалчивает, что после 2028 года провал на экзамене будет означать не просто «потерю года», а полную потерю права на судебное представительство, и тем самым он представляет смертельный для карьеры риск как незначительное неудобство.
Госконтроль как мировая норма
Тезис Рогачева о том, что «во многих странах мира с развитыми правовыми системами в обязательном порядке присутствует контроль за адвокатурой со стороны государства», является откровенной ложью, нацеленной на неинформированную аудиторию. Контроль за адвокатурой есть, но он ограничен общепризнанными стандартами независимости адвокатуры, которые в странах мира с действительно развитыми правовыми системами не нарушаются. Более того, международные стандарты (в частности, Основные принципы ООН о роли юристов) требуют независимости адвокатуры от государства, а не контроля с его стороны. Российская модель контроля – предоставление Министерству юстиции «права вето» на принятие решений о приеме и дисциплинарных взысканиях – нарушает международные стандарты и влечет превращение адвокатуры в «придаток государства». Заявление Рогачева о том, что кодексы этики защитят адвокатов, смехотворно, когда ФПА под давлением государства может переписывать эти правила по своему усмотрению.
Президент Рогачев тем самым пытается выдать антидемократическую, репрессивную модель за признак «развитой правовой системы».
Фейковая оппозиция «избыточному контролю»
Рогачев, как и руководство ФПА, применяет тактическую уловку: он признает «избыточность намечаемого контроля», говорит о направленных предложениях, но тут же заявляет, что «угрозы принципу самоуправления это, конечно же, не несет». Это абсурд. Как может не нести угрозу система, где Минюст получает право инициировать лишение статуса, право на «ведомственную апелляцию» и контроль над ключевыми аспектами деятельности адвокатуры? Заявляя о несогласии с отдельными, самыми вопиющими деталями (как право Минюста на обжалование в суд), Рогачев и ФПА легитимируют всю остальную репрессивную конструкцию, создавая видимость отстаивания интересов корпорации.
Семантическая ловкость рук: «юридическая помощь» против «юридических услуг»
С ловкостью опытного политтехнолога Рогачев размахивал семантической морковкой: юристы, вступающие в коллегию адвокатов, будут не просто оказывать «юридические услуги», но и повысят свою квалификацию до оказания «юридической помощи». Это «высокое отличие» знаменует собой благородное повышение – и неважно, что это и есть манипулятивная уловка, призван- ная замаскировать принудительное включение в структуру, подчиненную государству. В чем же реальная разница? «Помощь» предполагает обязательные сборы, государственный надзор и «защиту» со стороны Федеральной палаты адвокатов, в то время как «услуги» обеспечивают независимость и гибкость – качества, о которых Рогачев просто забыл упомянуть. Это классическая схема подмены: обещают престиж, а получают кандалы.
Дисциплинарная ловушка: «неприкосновенная независимость»
В условиях репрессивных реалий Рогачев похвастался «легким дисциплинарным воздействием» ПАНО: всего за шесть месяцев было подано 26 жалоб и возбуждено два дела против 1200 адвокатов. «Адвокатура не дает оснований для вмешательства государства», – заявил он, отметив ее «многовековую независимость». В действительности все это блеф, так как хорошо известно, что дисциплинарные механизмы в палате систематически используются для подавления инакомыслия. Новые полномочия Минюста только «закрутят гайки». Статистика Рогачева может свидетельствовать о самоуспокоенности, или принуждении, а не о гармонии. Он действительно верит, что несколько дел доказывают независимость, или просто надеется, что никто не заметит надвигающуюся тень репрессий со стороны государства?
Принудительный обратный отсчет
Призывая юристов «действовать как можно скорее», а не ждать до 2028 года, Рогачев сформулировал досрочное зачисление в армию как беспроигрышную ставку: провалить экзамен, продолжать практиковаться, попробовать еще раз. Однако после 2028 года игра окончена – доступ в суд без адвокатского удостоверения будет запрещен. Это проявление «тактики давления», которая предполагает принудительное выполнение требований. За веселым подталкиванием Рогачева скрывается мрачный ультиматум: присоединяйтесь к коллегии адвокатов или попрощайтесь со своей карьерой. Насколько это «удобно» для юристов?
«Либеральное» законодательство: предложение «продавца» надеть «смирительную рубашку»
Назвав законопроект «достаточно либеральным», Рогачев с невозмутимым видом поддержал его, предположив, что это мягкий толчок к единству на основе «равных правил». На деле же очевидно, что за «либеральным» фасадом скрывается «тоталитарная система контроля», лишающая юристов свободы и граждан выбора. Энтузи- азм Рогачева связывает его с капитуляцией ФПА, которая критикуется за «стратегическое предательство». Рогачев наивен или просто читает сценарий, написанный для него в Министерстве юстиции.
Игнорирование системных угроз
Рогачев с легкостью отметает ключевые аргументы противников реформы как «надуманные». Рассмотрим, что именно он считает «надуманным»: и вытеснение юристов с рынка труда, и ликвидацию их бизнеса, и рост фискальной нагрузки, и нарушение прав доверителей на выбор представителя по их желанию – все это для Рогачева «надумано», а потому лишено необходимости рассмотрения по существу. Рогачев отмахнулся от критиков, чьи опасения наполняют информационное пространство доказательствами экономического краха, нарушений прав человека и профессионального краха, назвав их «надуманными и необоснованными доводами». Налоги не вырастут, отрасли не погибнут, клиенты не пострадают, настаивал он. Опровержение, основанное на данных (массовая безработица, рост цен, барьеры доступа), делает его беспечность либо бредовой, либо нечестной. Почему бы, Николай Дмитриевич, не подкрепить эти «надуманные» страхи фактами, вместо того чтобы отмахиваться от них как от назойливой мухи?
Самым показательным является ответ на вопрос о расходах: Рогачев лицемерно заявляет, что «коллеги-юристы, получив адвокатский статус, тоже будут участвовать в этих конференциях, в определении, в том числе, и размера отчислений». Он умалчивает, что этот же законопроект наделяет ФПА правом отменять решения конференций региональных палат и вводит механизм, гарантирующий несменяемость руководства палат через «делегатов по должности». Участие новых адвокатов в таких конференциях, даже если оно вдруг почему-то состоится, будет чистой фикцией.
Сеанс массового гипноза
Действия и высказывания Николая Рогачева – это не диалог, а сеанс массового гипноза, попытка представить демонтаж независимой юридической профессии как «комфортный переход» в процветающую и заботливую корпорацию. Его выступление – ярчайшая иллюстрация того, как
«захваченный» государством институт адвокатуры через своих региональных наместников проводит в жизнь антиконституционную реформу, убаюкивая будущих жертв сказками о финансовом благополучии и высоком статусе, в то время как за их спиной возводится здание тотального контроля. Удовлетворение, с которым господин Рогачев «ушел со встречи», – это удовлетворение миссионера, успешно продавшего туземцам стеклянные бусы в обмен на их свободу.
Дезориентация
Выступление Николая Рогачева на этом «диалоге» стало своеобразным примером дезориентации адвокатов и юристов. С улыбкой и пожатием плеч он пропагандировал представление об «адвокатской монополии» как об уютной, процветающей гавани, игнорируя предупреждения о «захваченной государством» адвокатуре, уничтоженной независимой профессии и гражданах, лишенных реального юридического выбора. Его действия – уклонение от сути законопроекта, преуменьшение его стоимости и восхваление его «либеральных» достоинств – наводят скорее на мысль о том, что он не столько защитник юристов, сколько добровольный винтик в механизме, ограничивающем их автономию. Какими бы вежливыми ни были его слова, они звучат неубедительно по сравнению с суровой правдой: «адвокатская монополия» – это не прогресс, а профессиональный похоронный марш. Остается только надеяться, что юристы Нижнего Новгорода раскусят это «очарование», пока не стало слишком поздно.