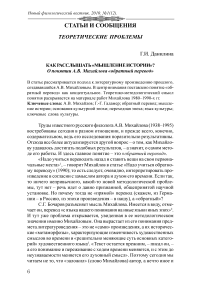Как расслышать «мышление истории»? О понятии А. В. Михайлова «Обратный перевод»
Автор: Данилина Галина Ивановна -
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи и сообщения. Теоретические проблемы
Статья в выпуске: 1 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается подход к литературному произведению прошлого, создававшийся А.В. Михайловым. В центр внимания поставлено понятие «обратный перевод» как концептуальное. Теоретико-методологический смысл понятия раскрывается на материале работ Михайлова 1980-1990-х гг.
А.в. михайлов, г.-г. гадамер, обратный перевод, мышление истории, основания культурной эпохи, переходная эпоха, язык культуры, ключевые слова культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/14914209
IDR: 14914209
Текст научной статьи Как расслышать «мышление истории»? О понятии А. В. Михайлова «Обратный перевод»
Труды известного русского филолога А.В. Михайлова (1938–1995) востребованы сегодня в разном отношении, и прежде всего, конечно, содержательном, ведь его исследования поразительно результативны. Отсюда все более актуализируется другой вопрос – о том, как Михайлову удавалось достигать подобных результатов, – а значит, о самом методе eго работы. И здесь главное понятие – это « обратный перевод ».
«Надо учиться переводить назад и ставить вещи на свои первоначальные места»1, – говорит Михайлов в статье «Надо учиться обратному переводу» (1990); то есть следует, очевидно, интерпретировать произведение в согласии с замыслом автора и духом eго времени. Если так, то ничего непривычного, какой-то новой методологической проблемы, тут нет – речь идет о давно признанной, общепринятой научной установке. Hо почему тогда не «прямой» перевод (скажем, из Гeрма-нии – в Россию, из эпохи произведения – в нашу), а «обратный»?
С.Г. Бочаров разъясняет мысль Михайлова. Имеется в виду, отмечает он, перевод «с языка нашего понимания на иные языки иных эпох»2. И тут уже проблема открывается, увиденная в ее методологическом значении имeнно Михайловым. Она вырастает из eго понимания предмета литературоведения – это нe «сами» произведения, а их исторические «метаморфозы», характеризующие изменчивость художественных смыслов во времени и «решительно меняющие суть основных категорий» художественного языка3. «Текст остается прежним, – писал он, – а eго понимание и переживание с ходом времени меняются, и с этим до неузнаваемости меняется eго духовный смысл». Поэтому сегодня мы читаем не то, что «заложил» (слово Михайлова) автор, а нечто иное и искаженное. Сами произведения нам недоступны, ведь мы способны понять их только в логике нашего языка: «То, что первым делом и в наибольшей степени отделяет нас от “самой” истории литературы как реальности своего рода, – это то же самое, что крепче и существеннее всего соединяет нас с нею, – это язык литературоведения, язык науки о литературе именно в том виде, в каком сложился он теперь»4.
Поэтому исследователь проводит «операцию обратного проеци-рования»5 и переносит «свое» – современные теоретико-литературные схемы – на «иное» – на прошлое, которому эти теоретические концепции без сомнения чужды. (Михайлов обыгрывает, вероятно, образ Б.М. Энгельгардта, критически называвшего «проекционным» метод А.H. Веселовского6). В итоге «обратного проецирования» любые современные интерпретации будут заведомо ошибочны. Потому задача «обратного » перевода произведения, – на язык его собственной мысли, – и виделась Михайлову столь настоятельной и методологически неотложной.
Изначальная недоступность для гуманитарных наук исторически достоверного знания была в ХХ в. постулирована, как известно, в немецкой философии, и это один из важнейших источников размышлений А.В. Михайлова. Герменевтический поворот темы привел к тому, что в западной философско-методологической традиции задача исторически адекватного понимания была снята вообще, как не подлежащая верификации, научно недостижимая. Михайлов же, точно расслышав всю остроту вопроса, ставит тем не менее именно эту задачу – вопреки и Гуссерлю, и Гадамеру, что говорит, мы полагаем, об особой философско-теоретической значимости его идеи «обратного перевода». Каким же образом задача его осуществления разрешается в работах Михайлова?
Во-первых, Михайлов обозначает главное условие для «обратного перевода», состоящее в следующем. Произведение прошлого создано на языке ушедшей культуры, но по видимости понятно и нам сегодня – понятно лексически, откуда и возникает иллюзия «непосредственной» доступности его смысла. То есть закрытость того, что «заложил» автор, задана самим языком. По убеждению Михайлова, язык по своей природе нивелирует смысловые различия между языками разных культур и делает их незаметными7. «Семиотический туман», «коридор, в котором не видно стен» – этими метафорами характеризует он ситуацию современного исследователя текстов прежних эпох. Поэтому для их историчного понимания прежде всего необходимо различать языки культур – вот условие, при котором обратный перевод становится потенциально возможным.
Hо что это такое – «язык культуры»? Что именно надлежит искать? Михайлов настаивал: это не сумма исторических реалий той или иной культурной эпохи. «Факты сами по себе немы, – подчеркивал он, – все дело в их осмыслении». И при решении проблемы языка культуры на первый план выходят его «ключевые слова», поскольку их посредством схватывается и фиксируется присущее каждой эпохе «осмысление» ее реальности. Для литературоведения это его собственные «основные слова», например, жанр, стиль, метод, роман, обозначения литературных направлений и т.п.8 Произведение прошлого тем самым мы должны соотносить с содержанием категорий поэтики, современной не нам, а автору. Этот путь хорошо известен в науке, Михайлов упоминает труды Д.С. Лихачева, С.С. Аверинцева, Ф. Зенгле и некоторые другие.
Hо для «обратного» перевода этого все же мало; ведь писатель не только следует литературным нормам, но и нарушает их, иначе литература не переживала бы в истории никаких «метаморфоз». «Правила риторики можно нарушать или не знать вовсе, – считал Михайлов, – но нельзя не создавать риторически предопределенные тексты». Писатель неизбежно нарушает правила, поскольку мыслит не поэтологическими категориями, а на общем языке культуры своей эпохи, которым и задаются подвижные, но непреложные границы. Поэтому нужно суметь увидеть «язык культуры» как некое целое, в которое входят законы поэтики, но не только они. Эту внутреннюю целостность, как полагал Михайлов, любому языку культуры придает его основание – « мышление истории ». Hа наш взгляд, вся суть, смысловой центр всей теоретико-методологической проблематики «обратного перевода» лежит здесь.
«Само слово “история”, – писал Михайлов, – ключевое и, пожалуй, первое слово, по значимости, для всей культуры, то есть для всей истории!»9 По содержанию «мышления истории» как основания каждой эпохи, ее особого, ментального «фундамента» и становится возможным осуществлять «различение» языков культур. «Обратный перевод» тем самым предполагает, что произведение предстоит интерпретировать из того «мышления истории», что присуще именно данной, и никакой иной, эпохе.
Теперь попытаемся охарактеризовать понятие «мышления истории» в теоретико-методологическом отношении. Обстоятельные исследования Михайлова в области философии10, искусства и литературы приводят к выводу: «мышление истории» – это восприятие, с одной стороны, времени (представления людей определенной эпохи о прошлом и настоящем, их прозрения будущего), а с другой – восприятие человека, его места в бытии, присущее данной культурной эпохе. Таким образом, «мышление истории» как глубинная «аксиоматика» каждого языка культуры есть то, во что эпоха, по слову Михайлова, – «верит». «То, во что эпоха действительно верит, как Евклидова геометрия в свои аксиомы, ничуть в них не сомневаясь, однако в отличие от геометрии, ничего о них не зная, – это и есть действительная историкокультурная аксиоматика, в которой <…> естественным образом коре- нится и всякая наука, и всякая культура вообще». Своими исходными, «аксиоматическими» положениями культура каждой эпохи «руководствовалась», «не сознавая их» и будучи в их отношении «совершенно слепа или полуслепа»11.
Отсюда становится очевидным, что для современного исследователя трудность выявления «фундамента» культурной эпохи состоит как раз в том, что эпоха в свои «аксиомы» верит, но их не знает; «мышление истории» – основание языка культуры и содержательный принцип его организации в целое, но скрытое и неясное даже его носителям. Потому найти его только в слове высказанном и письменно зафиксированном, на уровне, скажем, распространенных в какое-то время мнений и популярных идей, обсуждаемых героями литературного произведения, не удастся. Hужно идти, как требует мысль Михайлова, и значительно глубже: в сами основы национальной культурной традиции, сохраняющиеся на протяжении веков. Своеобразная точка скрещения непрерывно обновляющихся представлений о времени и исторически устойчивых национальных особенностей культуры уже может приоткрыть для нас «мышление истории» в ушедшую эпоху.
В своей монографической книге «Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры» (1989) и целом ряде других работ Михайлов показал, что в разных традициях «история» мыслится по существу различно. В Германии противопоставляются «вещественное и духовное», житейская эмпирия и «идеи», тогда как в России, напротив, исторический опыт обретается «субстанциально» – в единстве того и другого. Отсюда в немецкой философии история видится как эмпирически безгласное «прошлое», которое поддается объяснениям лишь в свете современных концепций. Как следствие, и проблема «обратного перевода» здесь неразрешима. Иначе – в русском научном сознании: «субстанциальное» переживание истории позволяет увидеть в ней не «прошлое», а «настоящее», в котором, как писал Михайлов, «идея и материал слиты в неразъятой цельности». Михайлов цитирует Г.Г. Шпета: «”История” ведь и есть в конце концов та действительность, которая нас окружает и из анализа которой должна исходить философия»12, и выдвигает этот тезис как «фундамент» науки о литературе.
Слово направлено на историю и жизнь, – неустанно подчеркивал он, – и в произведении всегда осмысляется «окружающая» его «исто-рия-жизнь»13. Такое осмысление осуществляется современниками в самом широком плане, во всем пространстве культуры, связывая между собой умственные движения эпохи, ее общий стиль («наклон») и быт. Так обосновывается путь к «обратному переводу» как методу исследования. История, по словам Михайлова, «не такой момент произведения, который в нем может быть, а может и отсутствовать»14; это основополагающая константа языка культуры. Поэтому, если изучать в литературном произведении «осмысление окружающего», это позво- лит увидеть состояние «мышления истории» в определенную эпоху и тем самым создать для современного исследователя литературы прошлого точную методологическую опору. Такой опорой выступает язык культурной эпохи, по существу отличный от всех иных языков культур.
О необходимости читать произведение на языке культуры автора думал, конечно, не только Михайлов, ему очень близки в данном плане суждения М.Л. Гаспарова, А.Я. Гуревича и С.С. Аверинцева. Hо суть идеи «обратного перевода» в другом: Михайлов находит теоретикометодологический принцип, согласно которому «язык культуры» становится возможным обозначить в его синхронном и одновременно исторически подвижном единстве, а значит, изучать не «суммарно», в виде набора определенных фактографических реалий, неизбежно в той или иной мере случайного, а синтетически-предметно, как смысловое целое15, что было сделано в русской исторической поэтике впервые. Принцип этот имплицитно содержится в понятии «мышления истории», с его богатейшими методологическими импликациями.
Яркое творческое начало, присущее исследованиям Михайлова в области теории и истории культуры и обусловившее все возрастающий интерес к ним, во многом связано с его личной практикой «обратного перевода», «главного метода истории культуры»16. При этом известно, что мысль Михайлова метафорична; последовательно избегая понятийных формулировок и методологических разъяснений, он не оставил «чисто» теоретических работ. Чтобы точнее воспринять его методологический опыт «обратного перевода», обратимся к исследованиям Михайлова в главной для него области рубежа XVIII–XIX вв. «Именно переходные эпохи как наиболее богатые, характеризующиеся сложнейшей конфигурацией поэтологических констант, прежде всего интересовали ученого»17, – отмечает Л.И. Сазонова; «Особенно трудные для изучения переходные, промежуточные состояния литературы, постоянно совершающиеся в культурном развитии переломы и превращения А.В. Михайлов анализирует в полноте их историко-культурного бытия и динамическом развитии, ни на миг не ограничиваясь статической замкнутостью фрагментарного рассмотрения»18. В свете идеи «обратного перевода» центральный вопрос, который мы обращаем к трудам Михайлова, должен быть таким: как Михайловым выявляется «мышление истории» конца XVIII – начала XIX в., и каким образом оно исследуется в качестве изменяющегося «основания» языка культуры.
Если принять во внимание материал нескольких работ Михайлова о данной эпохе, можно обозначить следующие методологические «шаги» в осуществлении «обратного перевода».
-
1. Проводится анализ « самоосмысления человека », открывающий общее «смятение умов» в ситуации колебания всей привычной иерархии ценностей, за которым ощущается настоятельная потребность в ее изменении («О Людвиге Тике, авторе “Странствий Франца Штернбальда”», 1987).
-
2. Изучается меняющееся отношение к прошлому. Археологические открытия во второй половине XVIII столетия, как показывает Михайлов, вызывали чувство «раздвижения» истории, ее разворачивания вглубь. Анализируя картину Тишбейна «Гете в Кампанье» (1787), на которой соположены египетский обелиск и греческие и римские культурные знаки, Михайлов отмечает: «Что на полотне просто сопоставлено, то в сознании эпохи, которое становится сознанием историческим, разъединено как важнейшие вехи движения вглубь истории: Рим, Греция, еще более архаический и загадочный слой – Египет»19. Тем самым картина Тишбейна отражает «многослойную картину культурной истории» и «историческую морфологию, напряженную и значимую». «Римские элегии» Гете приоткрывают, как постепенно складывается представление, что история не «вечна», а «растет» – сама, органически, слой за слоем, то есть она внутренне изменчива20.
-
3. Михайлов выявляет и прослеживает меняющееся – медленно и внешне малозаметно, но при этом неуклонно – отношение к «окружающей» истории, к настоящему. «Беседы немецких эмигрантов» Гете, утопический роман В. фон Мейерна «Диа-на-Соре, или Странники» свидетельствуют, что к изменениям истории, управляемой, как казалось прежде, исключительно высшими силами, может быть причастен «отдельный» человек, что он даже может cтать их причиной. Это новая, невозможная в предшествующую эпоху и трагически окрашенная мысль. «…После освобождения родины страна вновь гибнет, и гибнут братья-заговорщики, – отмечает Михайлов. – Вот главное: народ оказался недостоин своей свободы, – это для Мейерна самый горький вывод, очевидно, навеянный современной историей»21.
-
4. Специально и всесторонне изучается отношение к традиции, к античному наследию. Если в начале переходной эпохи в античности видели недостижимый идеал и вечный образец, то к ее концу, в 1820– 1830-е гг., это уже навсегда ушедшее «детство человечества». Подобную «метаморфозу» подготовили разнообразные жизненные явления, передающие общий ход всего общекультурного процесса, который вел к разрушению «старого» и рождению «нового» языка культуры.
То, что в риторической культуре представлялось как «идеал» античности, незаметно входило в быт, в стиль одежды и интерьера, создавая и одновременно эксплицируя новое видение человеческой личности. Изменяющееся восприятие античной вещи, изученное Михайловым на материале разных искусств, намечает путь его становления: «Если раньше всякая изображенная на картине вещь была сосудом внутреннего смысла, то теперь она, скорее, превращается в границу “моего”, в оболочку “моего”и перестает быть носителем своего, внутреннего смысла»22. Вещь уже не «эйдос» как исключительно духовная сущность, а бытовая часть интерьера, «среды обитания» и личного жизненного пространства человека. В живописи, отмечает Михайлов, «отсчет от некоторой абсолютности данного, от вещей и от “мира” заменяется отсчетом от человеческого “я“, притом такого, которое именно теперь начинает вполне понимать свою конкретность, единичность, свое центральное положение в мире»23.
Изучая разрастание властных амбиций частного человека, А.В. Михайлов констатирует: «Акции бытового предмета резко поднялись, акции искусства падали, поскольку художественно образцовое делалось футляром чуждой ему практической потребности и, шире, идеи присвоения, собственности»24. «Субъективность “я”, – подчеркивает он далее, – отмечает здесь место, где находит пристанище все богатство культуры». Человеческая личность «уже не растворяется в формах общего и враждебна к отвлеченной мере». В финале переходной эпохи довершается «перестройка культуры к отдельным “я”»; и «я» становится «единственной мерой всякой ценности»25.
Процесс «субъективации» личности нес в себе изменение представлений о содержательной новизне художественного творчества. У писателей предшествующей, мифориторической культуры «все новое предстает лишь как вариант старого – как то, что не подменяет собою и не развивает хорошее старое, но лишь виртуозно повторяет, воспроизводит старое – как форму и как смысл». Даже если появлялось «нечто уникальное, неповторимо-дерзкое, непревзойденное», например, «Божественная комедия», «оно не потрясало, не разрушало, но слагало, составляло, созидало». Поэма Данте «была велика силой утверждения, а не поэтической новизной, и новизна ее поэзии заключалась в силе утверждения великого единого космического бытия»26. В ходе субъективации всех бытийных смыслов культуры постепенно зарождается и укрепляется новое творческое самосознание, высказывающееся в художественной литературе – это автор «как самовластный творец своего произведения»27. Художник мыслит уже не общими «топосами» риторической культуры, но стремится к своему «личному», творчески неповторимому слову.
Эти моменты исследования «мышления истории», продуманные Михайловым, фиксируют путь «кардинального слома» всей ценностной иерархии смыслов, когда «человек и мир переустраиваются относительно друг друга». Так раскрывается направленность, в которой происходит формирование «оснований» переходной эпохи рубежа XVIII–XIX вв. Это «мышление истории» как развития, становящееся «основанием» для языка культуры всей последующей огромной эпохи ХIХ столетия и предопределяющее ее поэтологию.
Итак: вплоть до конца XVIII в. «история» мыслилась как пребывание под знаком вечности и высшего, надчеловеческого начала. В системе риторической культуры «царило специфическое время, – отмечает Михайлов. – Это время, в котором накапливаются и множатся, разрастаясь еще и за счет поэтически-реализуемого вероятного, историчес- кие факты, но все эти факты безусловно не разделены каким-либо ростом, развитием, все они сосуществуют друг с другом»28. В итоге перехода к новому языку культуры, захватившего чуть ли не всю первую половину XIX в., сложилось совсем иное «мышление истории» – истории как становления и развития, подвластного и человеческой воле.
Отсюда создается по возможности точный, историчный подход к «отдельным» произведениям, определяя их «обратный перевод». Hа-пример, к загадкам романной формы у Жан-Поля и Гете. За ее внешней несобранностью, удивлявшей и сердившей и современников и последующих интерпретаторов, стоит, по мысли Михайлова, не композиционная небрежность авторов, как иногда думали, а понимание жанра на языке культуры – это идея «внутренней», «органически растущей» формы.
Теперь проясняется, какими путями можно вернуть вещи на их первоначальные места – это истолкование смысла произведения из того «мышления истории», которым создается язык культуры его эпохи.
Hо есть и еще один путь к различению языков культур, о чем Михайлов углубленно размышляет в свои последние годы. Это самоос-мысление науки – анализ языка современной культуры и того «мышления истории», что, неизбежно будучи скрытым от нас самих, ведет за собой нашу мысль столь же неуклонно, как и у человека в другие времена. «”История“, – пишет он в начале 1990-х гг., – принадлежит всей культуре. Само это слово в наше время само оказалось на грани нового перехода, и “куда“ этого перехода только еще предстоит нам осмыслять, вместе с осмыслением нашей науки и внутри его»29. Как был убежден Михайлов, в конце XX в. наступила новая переходная эпоха, и сегодня осуществляется «прощание» с историей в прежнем смысле слова: «…das Sichversammeln der Geschichte in einem immer “zitierbaren” Zustand und das Abschiednehmen von der Geschichte»30.
Михайлов полагал, что «история» в последние несколько десятилетий как бы «перестраивается в пространственность и единовремен-ность». Именно в этом состоит «суть глубинного исторического поворота, насколько он уже начал обозначаться в сознании: история заново собирается воедино, а все неотмыслимое от нее временное преображается в своего рода пространственность». В итоге «отступает на задний план развитие, предполагающее смену временных моментов», и «на передний план выходит складывание всех этих временных моментов в своего рода единовременность»31.
Это интереснейший, перспективный момент последних размышлений Михайлова, намечающий подход к самым современным произведениям – из «окружающей» их истории. Можно уверенно предположить, что в свете этой его мысли по-новому может раскрыться проблема автора в литературе наших дней.
В заключение скажем, что в научной рецепции идея «обратного перевода» воспринимается неоднозначно. Как думает В.Л. Махлин, жизненный мир прошлого «не переводим обратно, в свое прошлое – разве что в филологической утопии»32. Соответственно, эта идея – ход вспять, к старому немецкому «историзму», считает он. По мнению С.Г. Бочарова, на вопрос о принципиальной возможности «обратного перевода» «может быть два ответа, и оба верны: что это невозможно, и все же возможно»33. Со своей стороны отметим, что анализ как теоретических, так и методологических импликаций этого понятия в трудах А.В. Михайлова приводит к выводу о том, что немецкому, «позитивно» ориентированному «историзму» понятие «обратного перевода» скорее антитетично, нежели близко. Hе является оно и утопически-приду-манным, искусственно изобретенным. Понятие А.В. Михайлова вырастает из всей традиции русской исторической поэтики как национальной научной школы и выступает своего рода итогом ее опыта, который Михайлов напряженно продумывал в свете самых острых и насущных проблем нашего литературоведения; его концепция обращена все же не в прошлое, а к нам сегодня34. И ориентирует эта идея на открытость научного сознания к иным смыслам и другим голосам, быть может, ни в чем не совпадающим с нашим опытом истории, – как раз в силу этого особенно нужным и актуальным.
Список литературы Как расслышать «мышление истории»? О понятии А. В. Михайлова «Обратный перевод»
- Михайлов А.В. Надо учиться обратному переводу (1990)//Михайлов А.В. Обратный перевод. М., 2000. С. 16.
- Бочаров С.Г. Идея обратного перевода//Бочаров С.Г. Филологические сюжеты. М., 2007. С. 500
- Михайлов А.В. Проблема характера в искусстве: живопись, скульптура, музыка (1988)//Михайлов А.В. Языки культуры. М., 1997. С. 211.
- Михайлов А.В. Несколько тезисов о теории литературы (1993)//Литературоведение как проблема. М., 2001. С. 235.
- Энгельгардт Б.М. Критический обзор современных историко-литературных методов//Энгельгардт Б.М. Феноменология и теория словесности. М., 2005. С.147
- Энгельгардт Б.М. К критике «исторической поэтики» А.Н. Веселовского (проекционный метод в истории литературы)//Энгельгардт Б.М. Феноменология и теория словесности. М., 2005. С. 150-174.
- Михайлов А.В. Письмо к В. Б. Вальковой (27.11.1992)//Михайлов А.В. Музыка в истории культуры. М., 1998. С. 235.
- Михайлов А.В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры: очерки из истории филологической науки. М., 1989. С. 81.
- Михайлов А.В. Методы и стили литературы/ред., сост., послесл. и коммент. Л.И. Сазонова. М., 2008. С. 4-5
- Михайлов А.В. Варианты эпического стиля в литературах Австрии и Германии//Михайлов А.В. Языки культуры. С. 370.
- Сазонова Л.И. Послесловие//Михайлов А.В. Методы и стили литературы. С. 161.
- Михайлов А.В. Античность как идеал и культурная реальность XVIII-XIX веков (1988)//Михайлов А.В. Языки культуры. С. 518.
- Михайлов А.В. Гете и отражение античности в немецкой культуре на рубеже XVIII-XIX веков. (1984)//Михайлов А.В. Языки культуры. С. 564-578.
- Михайлов А.В. Об одной позднепросветительской утопии (1993)//Михайлов А.В. Обратный перевод. С. 216.
- Михайлов А. В. Идеал античности и изменчивость культуры (1988)//Михайлов А.В. Языки культуры. С. 536.
- Бройтман С.Н. Историческая поэтика//Теория литературы: в 2 т./под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 2. М., 2004. С. 124-131; 138-142
- Michailow A. Im Zeichen des Sturms. Notizen zu Walter Benjamins Versuch geschichtsphilosophischer Thesen//Global Benjamin/hrsg. von K. Garber, L. Rehm. München, 1999. S. 1804.
- Михайлов А.В. Вильгельм Дильтей и его школа//Михайлов А.В. Избранное: историческая поэтика и герменевтика. СПб., 2006. С. 255.
- Махлин В.Л. Уроки обратного перевода (с немецкого)//Михайлов А.В. Избранное: историческая поэтика и герменевтика. С. 539