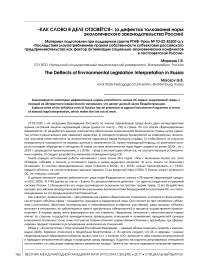«Как слово в деле отзовётся» (о дефектах толкования норм экологического законодательства России)
Автор: Морозов Г.Б.
Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) Электронный ресурс @vestnik-rsias-online
Рубрика: Экологическая культура и образование: школа-вуз-компетентность
Статья в выпуске: 2, 2011 года.
Бесплатный доступ
Анализируются некоторые дефинитивные нормы российского закона об охране окружающей среды с позиций их абстрактного юридического толкования, что делает данный закон бездействующим.
Короткий адрес: https://sciup.org/14315383
IDR: 14315383
Текст статьи «Как слово в деле отзовётся» (о дефектах толкования норм экологического законодательства России)
Анализируются некоторые дефинитивные нормы российского закона об охране окружающей среды с позиций их абстрактного юридического толкования, что делает данный закон бездействующим.
Explores some of the definitive rules of Russian law on protection of approx-Environment Programme in terms of abstract legal interpretation, which makes the law out of work.
27.05.2010 г. на заседании Президиума Госсовета по охране окружающей среды была дана нелицеприятная оценка состояния защиты окружающей среды (далее по тексту – ОС) в стране. По его итогам сформулированы мероприятия: 1) разработать единую геополитику обеспечения экологической безопасности страны путем принятия четких и решительных мер правового характера; 2) поощрять переход предприятий на современные технологии, усиливая ответственность за экологические нарушения, вводя большие штрафы; 3) чтобы бизнес не опасался немедленного наказания и не скрывал данные о загрязнении ОС, нужен переходный период, по окончании которого последует обращение к санкциям; 4) новая система экологических норм будет создана не ранее 2020г., но с 2014 г. запрещается проектирование, а с 2016г. – ввод в эксплуатацию объектов, не соответствующих установленным нормам; 5) следует разработать механизм возмещения вреда ОС.
Такой порядок исполнения работы напоминает слова песни 30-х годов: «Мы с железным конём все поля обойдём, соберём и посеем , и вспашем !» (здесь и далее выделено автором). То есть, пахать по сеянному! Основания: 1) система природоохранных норм появится в 2020г.; 2) с 2014г. нельзя проектировать, а с 1916г. вводить объекты, не соответствующие данным нормам; 3) до введения норм (2020г.?) бизнес может загрязнять ОС, не опасаясь санкций.
В данном контексте оценим действенность ряда норм Федерального закона «Об охране окружающей среды» от10.01.2002г. N 7-ФЗ (далее по тексту – Закон). По результативности действия – он один из неудачных в правовой системе России: 1) большинство его норм противоречит основным постулатам теории права; 2) его бездействие выгодно российским природопользователям реальными возможностями безудержной эксплуатации ОС, не сопровождаемыми за это юридической ответственностью.
Как известно, правоотношение – урегулированное правом общественное отношение, в которое в своих интересах вступают субъекты права – государство, граждане и юридические лица. Оно состоит из трех элементов: субъектов (участников); объектов (материальных и нематериальных интересов участников), ради которых субъекты вступают в отношение; их субъективных прав и юридических обязанностей в процессе осуществления правоотношения. В нормах права четко фиксируются все эти элемента. Нарушение, связанное с неисполнением нормы влечет со стороны государства принудительное прекращение отношения и применение юридической санкции (наказания). Насколько точно этим постулатам теории отвечают нормы Закона? Начнем с преамбулы, где сформулирован предмет правового регулирования экологических отношений.
Абзац 1: «В соответствии с Конституцией Российской Федерации ... каждый обязан сохранять природу и окружающую среду , бережно относиться к природным богатствам ...». Из цитаты следует, что ОС и природа – разные территориальные образования (объекты права), хотя в ст. 1 понятие «ОС» включает в себя помимо антропогенной и природно-антропогенной среды и природную среду (природу). Ощутимо на существо регулируемых отношений это не влияет, но смысловая неряшливость изложения налицо. Также и нет четкого правового толкования термина
«природное богатство» – объекта природоохранных правоотношений. По каким признакам оно отличается от «природной бедности»? А к ней бережно относиться не нужно?
В третьем абзаце сформулирован предмет регулирования указанных отношений: «Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы , возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности , связанной с воздействием на природную среду...» (далее по тексту). Во-первых, здесь в правовые отношения вступают неизвестные правовой науке субъекты права «общество» и «природа», когда субъектами российского права являются граждане, юридические лица, государство и муниципальные образования. Общество в качестве субъекта права законом не установлено. Во-вторых, любой субъект правоотношения – выступающее от своего имени либо по поручению, либо как должностное лицо, уполномоченное органами власти физическое лицо, обладающее физиологическими функциями, психикой и интеллектом. Природа, как таковая, ими не обладает и потому вступать в отношения не может, тем более вести хозяйственную и иную деятельность. Тем самым в Законе предмет правового регулирования природоохранных (экологических) отношений юридически грамотно не сформулирован. Потому по Закону природоохранная деятельность в стране реально не осуществляется.
Но этот его дефект не единственный: дефинитивные неряшливости норм Закона, нечеткость норм-принципов экологического законодательства – дефекты, больше усиливающие его бездействие. Дефиниция (лат. definitio) – краткое определение какого-либо понятия, отражающее существенные признаки предмета или явления. В НПА дефиниции используются в виде норм-дефиниций, устанавливающих правовое толкование терминов и понятий, используемых для создания «поведенческих» норм права. Чем точнее значение таких норм в НПА, тем точнее и правомернее могут соблюдаться и исполняться предписания законов, справедливее и обоснованнее выноситься судебные решения в случаях споров или при совершении субъектами права конкретных правонарушений.
Для терминов, не получивших в НПА нормативного толкования, таковыми могут быть их значения, изложенные в толковых словарях издательства «Русский язык», разработанных научными учреждениями языковедческого профиля РАН. Но многие термины в словарях имеют неоднозначное, поскольку по правилам лингвистики являются омонимами – терминами, обозначающими разные предметы или явления. Когда такой неконкретно толкуемый термин используется в правовом обороте, возникают коллизии, вызванные неустранимыми сомнениями в квалификации определенных правовых действий субъектов, обязанных их осуществлять согласно таким не конкретно толкуемым нормам.
В гражданском праве эти сомнения устраняются в соответствии с принципом применения гражданского законодательства по аналогии. В административном и уголовном данные сомнения в законодательстве толкуются в пользу лиц, обвиняемых в совершении соответствующих правонарушений (обладателей презумпции невиновности). Потому важно предельно точно формулировать в НПА нормы-дефиниции, обозначающие на юридическом языке существо определенных общественных явлений, фактов и состояний реальной жизни. Когда нужных дефиниций нет или в них неудачные (абстрактные и наукообразные) формулировки, смысловые «неряшливости», такие НПА не действенны.
В Законе самая проблемная в дефинитивном плане ст. 1 «Основные понятия» (дефиниции экологического права). В статье их 36. С одной стороны, когда в нем определены толкования конкретных терминов, это позволяет успешно регулировать соответствующие отношения. Но при условии, что термины имеют конкретное и четкое толкование. Для примера проанализируем лингвистические характеристики некоторых норм-дефиниций ст. 1 Закона.
« Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов». « Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле ».
Недостаток нормы – юридически несостоятельно требование обеспечивать «... в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле». К кому (или чему) конкретно обращено это требование – к приро-допользователям, к самой ОС с её компонентами всеми вместе или каждым в отдельности? А если из-за климатических и иных особенностей на территории (Южном антарктическом полюсе или Эвересте) таких благоприятных условий нет, эти природные территории охранять не надо? И какими юридически значимыми способами качественно и количественно оценить благоприятствующую для существования жизни на Земле «идеальную совокупность» природных компонентов?
Следующие дефиниции дают толкование природным объектам, не подверженным или мало подверженным антропогенному воздействию.
«Природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства». В следующих дефинициях устанавливаются составляющие данной дефиниции. Почему так актуален лингвистический анализ юридической сущности именно данных в определении объектов? В п. 2 ст. 4 Закона записано: «В первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию». В ст. 3 установлен такой важный принцип охраны ОС, как «приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов». Следовательно, значимость в выборе объектов природоохранной деятельности требует четкого отражения указанных ее принципов и целей в нормах Закона, подзаконных НПА и в НПА смежного законодательства, обеспечивающих эффективные способы осуществления данной деятельности. Дает ли реально такую возможность Закон? Проанализируем содержание дефинитивного толкования указанных объектов природоохраны.
«Естественная экологическая система – объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией».
-
1. Указание на пространственно-территориальные границы, отделяющие такую природную систему от иных территорий, не входящих в ее состав, по идее, требует провести территориальное деление страны по признакам того, что на конкретной территории специфично «...живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое (или нет) и связаны (не связаны) между собой обменом веществом и энергией». Реально установить такие границы нереально.
-
2. Реальное взаимодействие кого-либо с кем-либо возможно тогда, когда обе стороны активно воздействуют на ОС и, соответственно, друг на друга. Те есть, при условии, когда на активные действия одной стороны следует активное действие другой, что характерно для живых организмов. Неживые элементы лишь пассивно влияют на ОС и ее компоненты, и потому активный обмен веществ и энергии от взаимодействия у них происходит незаметно.
-
3. Как установить на территории реальные показатели « единого функционального целого » всех живых и неживых элементов, связанных обменом веществом и энергией? Ответ на вопрос вряд имеется. Потому наличие в Законе словосочетания «единое целое» – элемент фантастики либо научной абстракции, что можно лишь представить идеально. А право, как совокупность действующих на территории страны НПА, имеет дело с реальными отношениями, элементы которых должны быть четко определены для практической реализации.
«Природный комплекс – комплекс функционально и естественно связанных между собой природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими признаками».
-
1. Опять речь идет о границах комплекса (словосочетание «г еографические признаки »). Вопрос: «природный комплекс» и «естественная экологическая система» совпадают территориально? Или это – самостоятельные территории?
-
2. Юридическое толкование понятия «комплекс» в российских НПА не определено. В Большом энциклопедическом словаре» – это «…комплекс (от лат.complexus – связь, сочетание): 1) совокупность предметов или явлений, составляющих одно целое; 2) комплекс (психол.), – соединение отдельных психических процессов в некое целое”. Для юридических целей в понятии “природный комплекс” нужно как-то конкретизировать набор его составных частей, относящихся к природной среде, в совокупности составляющих нечто единое целое. Задача, как и в предыдущих случаях, остаётся не разрешимой.
-
3. Абстрактный характер в определении понятия выражений «функционально и естественно связанных» и «объединенных ... иными соответствующими признаками » позволяет считать данное толкование не только не правовым, но неудачным и с позиций экологической науки.
Правда, в словаре есть понятие “природный территориальный комплекс” с указанием на его синонимы “природная геосистема”, “географический комплекс”, “природный ландшафт”. Это – “...закономерное пространственное сочетание природных компонентов, образующих целостные системы разных уровней (от географической оболочки до фации)”, как “...одно из основных понятий физической географии. Обычно включает участок земной коры с присущим ему рельефом, относящиеся к нему поверхностные и подземные воды, приземный слой атмосферы, почвы, сообщества организмов. Между отдельными …комплексами осуществляется обмен вещества и энергии”. Как видно, научное физико-географическое толкование термина на юридический язык не переводится.
Исходя из сказанного, наполнения конкретным юридическим содержанием данного термина в этих толкованиях нет. Потому выделить природный комплекс как конкретный объект права нельзя. А нет объекта права – нет и реально осуществляемого правоотношения и соответственно его правовой защиты.
Еще один «юридический шедевр» статьи – понятие « наилучшая существующая технология» – технология, основанная на последних достижениях науки и техники , направленная на снижение негативного воздействия на ОС и имеющая установленный срок практического применения с учетом экономических и социальных факторов ». Эта дефиниция могла бы стать важной при осуществлении государственной политики экономического стимулирования решения острейших ресурсно-экологических проблем России. И вот почему:
-
- ст. 3 Закона декларирует принцип обеспечения «...снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на ОС в соответствии с нормативами в области охраны ОС, которого можно достигнуть на основе использования наилучших существующих технологий с учетом экономических и социальных факторов »;
-
- ст. 14 – «...предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов и переработке отходов, а также при осуществлении иных эффективных мер по охране ОС в соответствии с законодательством».
Вопросы.
-
1. Чем количественно и качественно отличаются друг от друга « наилучшее » от «лучшего», «хорошего», «удовлетворительного», «плохого», «наихудшего»? Правовых характеристик этих понятий нет вообще.
-
2. «Технология, имеющая установленный срок ». Лингвистическое толкование понятия «технология» (от греческого techne – искусство, мастерство, умение) – “...совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции.” По правилам ст. 1225 ГК РФ технологии не являются объектами интеллектуального права и на них не распространяется исключительное право как на самостоятельный объект интеллектуальной собственности. Потому на них не может устанавливаться срок действия права и государственная регистрация данного объекта и средств его индивидуализации.
-
3. Словосочетание «технология, основанная на последних достижениях науки и техники». Во-первых, нет юридического толкования термина «достижение». Во-вторых, как к этому термину для его объективизации юридически «подцепить» «науку и технику»? В-третьих, прилагательное «последние» – достижения по времени создания поздние? А если «поздние» хуже любых «ранних», всё равно за это надо давать налоговые и иные преференции?
-
4. Об « учете экономических и социальных факторо в». Не ясно, кто конкретно и как правомочен вести этот учёт? Более того, факторов (жизненных условий) экономического и социального характера в реальности бесконечное множество. Как эти факторы учесть и оценить для льготного налогообложения?
Следовательно , установленным сроком наилучшая технология юридически обладать не может. И по данному основанию в налоговых и иных преференциях обладателю такой технологии следует вполне законно отказывать. Кстати, налоговые льготы устанавливаются исключительно нормами НК РФ. В настоящее время ни по одному налогу льгот за осуществление природоохранной деятельности вообще и за внедрение наилучших технологий нет.
Можно найти подобные юридические «пороки» и «дефекты» при лингвистическом анализе других норм-дефиниций ст. 1. В итоге напрашивается вывод о «неработоспособности» Закона по этому основанию. Но с позиций постулатов теории государства и права в Законе можно найти еще много недостатков, свидетельствующих о двух причинах столь неэффективно действующего НПА: 1) авторы не обладали юридической грамотностью при его создании, а Госдума вкупе с Президентом страны при его принятии и введении в действие; 2) еще во времена римского права при расследовании причин каких-либо человеческих деяний требовалось дать ответы на простейшие вопросы: «Cui bono?(«Кому на пользу)? И « Cui prodest?» («Кому выгодно?)» . Зададимся и мы этим вопросом.
Как ни странно, но это выгодно большинству россиян, поскольку снимает реальную юридическую ответственность за ухудшение качества ОС. Кроме, пожалуй, профессиональных экологов, бьющих тревогу об ухудшении экологической ситуации и о том, что эти проблемы нужно незамедлительно решать на законодательном уровне. И власть, и политики, в принципе, не против этого. Но, следуя ильфо-петровскому тезису о том, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», специалистам-экологам представили в 90-х гг. возможность разработать новый вариант Закона. Он без проволочек был введен в действие в том содержании, которое подготовили виднейшие экологи страны, но не специалисты в сфере права, и который устраивает всех природопользователей от мелкого браконьера и порубщика древесины до крупнейшего нефтегазового магната. Но когда в адрес низкого качества экологических НПА следует критика, она адресуется их авторам, которым было оказано высокое доверие в подготовке нормативных актов, и которое эти авторы не оправдали.
Вот почему судьба изменения экологического законодательства в России не будет успевать за ухудшением качества ОС и использованием природного потенциала богатейшей своими ресурсами, какой является на планете Российская Федерация.