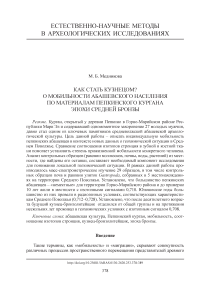Как стать кузнецом? О мобильности абашевского населения по материалам Пепкинского кургана эпохи средней бронзы
Автор: Медникова М.Б.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Естественно-научные методы в археологических исследованиях
Статья в выпуске: 253, 2018 года.
Бесплатный доступ
Курган, открытый у деревни Пепкино в Горно-Марийском районе Республики Мари Эл и содержавший одномоментное захоронение 27 молодых мужчин, давно стал одним из ключевых памятников средневолжской абашевской археологической культуры. Цель данной работы - описать индивидуальную мобильность пепкинских абашевцев в контексте новых данных о геохимической ситуации в Среднем Поволжье. Сравнение соотношения изотопов стронция в зубной и костной ткани помогает установить степень прижизненной мобильности конкретного человека. Анализ контрольных образцов (раковин моллюсков, почвы, воды, растений) из местности, где найдены его останки, составляет необходимый компонент исследования для понимания локальной геохимической ситуации. В рамках данной работы производилось масс-спектрометрическое изучение 29 образцов, в том числе контрольных образцов почв и раковин улиток Gastropoda, собранных в 5 местонахождениях на территории Среднего Поволжья. Установлено, что большинство пепкинских абашевцев - «неместные» для территории Горно-Марийского района и до примерно 10 лет жили в местности с изотопными сигналами 0,710. Юношеские годы большинство из них провели в радиогенных условиях, соответствующих характеристикам Среднего Поволжья (0,712-0,728). Установлено, что после десятилетнего возраста будущий кузнец-бронзолитейщик отделился от общей группы и на протяжении нескольких лет проживал в геохимических условиях с изотопным сигналом 0,708.
Абашевская культура, пепкинский курган, мобильность, соотношение изотопов стронция, кузнец-бронзолитейщик, эпоха бронзы
Короткий адрес: https://sciup.org/143167103
IDR: 143167103
Текст научной статьи Как стать кузнецом? О мобильности абашевского населения по материалам Пепкинского кургана эпохи средней бронзы
Такие термины, как «мобильность» и «миграции», скрывают совокупность различных процессов пространственного перемещения представителей древнего http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.253.378-389
населения на протяжении их жизни. Речь может идти о переселениях на короткие и длинные расстояния, об однонаправленных или сложных путешествиях, сопряженных с посещением разных местностей; о кратковременных сезонных миграциях и о поисках нового постоянного места. Обнаруженная при помощи изотопных исследований мобильность может быть отражением изменений социального статуса индивидуума, например вступление в брак или увод в плен (рабство), а также занятия торговлей ( Sjögren et al. , 2016).
Анализ соотношения изотопов стронция служит главным инструментом в изучении особенностей мобильности древнего населения. Этот элемент попадает в организм с водой и пищей, отражая геохимические характеристики скальных формаций и почвенных отложений, типичных для мест проживания. На протяжении жизни человека его скелетная система претерпевает постоянные химические и структурные изменения. Поэтому образцы костной ткани несут информацию о геохимической обстановке, в которой человек провел последние годы, и для анализа предпочтительно использовать мелкие, тонкостенные трубчатые кости или ребра. Напротив, зубная эмаль после минерализации остается неизменной, сохраняя информацию о периоде детства, за исключением «зубов мудрости», формирующихся позже. Вот почему изотопные исследования зубов способствуют наиболее эффективному выявлению мигрантов в составе палеопопуляций ( Price et al. , 2008; Bentley et al. , 2004; Montgomery , 2010; Афанасьев и др. , 2015; Энговатова и др. , 2015; Медникова , 2017а; 2017б; Шишлина и др. , 2018; и др.).
Сравнение изотопных сигналов зубной и костной ткани помогает установить степень прижизненной мобильности конкретного человека. Включение в этот анализ контрольных образцов (раковин моллюсков, почвы, воды, растений) из местности, где археологами найдены его останки, составляет необходимый компонент исследования для понимания локальной геохимической ситуации и для ответа на вопрос, кем был покойный, условно говоря, «местным» или «неместным».
Курган, открытый у деревни Пепкино в Горно-Марийском районе (координаты: N 56° 13’ 14.4084” Е 46° 32’ 3.5412”) еще в 1960 г. экспедицией под руководством А. Х. Халикова, давно стал одним из ключевых памятников средневолжской абашевской археологической культуры ( Халиков и др. , 1966). Особый интерес исследователей продолжает вызывать одномоментный характер захоронения группы молодых мужчин (не менее 27), самому младшему из которых было 15–19 лет, а большинству 20–25 ( Медникова , 2001).
Сегодня можно выделить несколько этапов в антропологическом изучении этих останков. В первой публикации антропологами Г. В. Лебединской и М. М. Герасимовой был сделан акцент на краниологическом исследовании материалов ( Халиков и др. , 1966). Тогда же были опубликованы реконструкции внешности пепкинских абашевцев, выполненные Г. В. Лебединской, наряду с первыми заключениями о травматических повреждениях, обнаруженных на черепах этих людей.
Второй этап был связан с биоархеологическим рассмотрением этих летальных травм и трепанаций ( Медникова, Лебединская , 1999; Медникова , 2001). Третий – с контекстуальным изучением останков кузнеца-бронзолитейщика
(погребенный № 8), состояния его здоровья перед гибелью и общего уровня физиологических стрессов в этой группе, начиная с раннего детства ( Медникова, Добровольская , 2008; Добровольская, Медникова , 2011).
Уже первые исследователи обратили внимание на бóльшую ширину лица и пониженную длину тела человека, вместе с останками которого были найдены предметы, необходимые для отливки и ковки бронзовых изделий: песчаниковая растиральная плита, массивный молот с перехватом для дробления руды, два тигля на ножках, глиняная форма для отливки вислообушного топора, костяные поделки, точилошлифовальщик из камня, наковаленка из лосиного рога, сланцевая плитка, обломок стенки сосуда. Морфологические особенности исходно подтверждали гипотезу о «чужеродном происхождении» пепкинского кузнеца. Но, как нам удалась установить, отличительные особенности этого человека (брахиморфность сложения, сравнительная низкорослость, широтная гипертрофия стенок диафизов костей верхней конечности и т. п.) обусловлены спецификой физических нагрузок и физиологическими стрессами, которые юный кузнец испытывал, начиная с подросткового возраста (Там же. С. 155). В этом же исследовании было установлено, что к обработке меди был причастен еще один пепкинский абашевец – индивидуум № 21, степень вовлеченности которого, впрочем, была не столь высока. Однако обращал на себя внимание тот факт, что только «медные люди» были погребены в Пепкинском кургане в сопровождении медвежьих астрагалов.
Одномоментный характер захоронения группы молодых мужчин неизбежно вызывал вопросы о характере их социальных и родственных связей. Ранее нами было высказано предположение, что погребенные в этом кургане объединены в единое целое не только обстоятельствами своей гибели, но и сходными особенностями своей жизни ( Медникова , 2001. С. 204–207). Это могли быть трагически погибшие члены одного «мужского дома», и эта гипотеза могла бы объяснить тщательность захоронения и обнаруженные следы сложных манипуляций с телами погибших.
Вот почему в поисках доказательств близкого биологического родства при сравнении степени внешнего сходства погребенных на третьем этапе исследования нами был использован метод геометрической морфометрии – современный количественный подход к анализу формы морфологических объектов ( Медникова, Тарасова , 2014). Метод геометрической морфометрии позволил выделить своеобразную группу из «медных людей» (№ 8, 21) и человека, подвергнутого процедуре трепанации (№ 13б). По форме лицевого скелета с ними сближается погребенный № 15. Другие пары предполагаемых близких родственников составили индивидуумы № 7 и 12, а также 3 и 6.
Возможность определения соотношения изотопов стронция и, соответственно, установление степени мобильности членов этой группы открывает новую страницу в изучении этого яркого археологического объекта и абашевской культуры в целом. Цель данной работы – описать индивидуальную мобильность пепкинских абашевцев в контексте новых данных о геохимической ситуации в Среднем Поволжье.
Методика и материалы
В рамках данной работы по стандартной методике на базе Всероссийского научно-исследовательского геологического института РАН производилось масс-спектрометрическое изучение соотношения изотопов стронция в 29 образцах.
В том числе были исследованы 22 образца костной ткани и зубной эмали погребенных в Пепкинском кургане (табл. 1). Отбор образцов был, прежде всего, связан с возможностью анализа зубов. Но особенности сохранности антропологических материалов, сопряженные с отсутствием в захоронении черепов, в большинстве случаев не позволили нам, к сожалению, сравнить геохимические условия в период детства и в последние годы жизни. Тем не менее, уже имеющихся данных достаточно для первых выводов об индивидуальной мобильности представителей этой группы абашевского населения.
Таблица 1. Соотношение изотопов стронция в исследованных образцах
|
№ обр. |
Памятник, № погребения |
Категория образца |
87Sr/86Sr |
2σ |
|
1 |
Пепкинский курган, п. 13б |
левый первый верхний моляр |
0,710516 |
12 |
|
2 |
Пепкинский курган, п. 4 |
второй верхний моляр |
0,710243 |
14 |
|
3 |
Пепкинский курган, п. 8 |
верхний премоляр |
0,710460 |
18 |
|
4 |
Пепкинский курган, п. 21 |
правый верхний первый моляр |
0,710679 |
8 |
|
5 |
Пепкинский курган, п. 12 |
первый моляр нижней челюсти |
0,713001 |
10 |
|
6 |
Пепкинский курган, п. 3 |
второй моляр верхней челюсти слева |
0,709736 |
8 |
|
7 |
Пепкинский курган, п. 7 |
фрагмент трубчатой кости |
0,710714 |
10 |
|
8 |
Пепкинский курган, п. 8 |
фрагмент тазовой кости |
0,708861 |
12 |
|
9 |
Пепкинский курган, п. 12 |
компакта левой локтевой кости (область метафиза) |
0,715233 |
14 |
|
10 |
Пепкинский курган, п. 11 |
компакта левой плечевой кости (мыщелок) |
0,714650 |
10 |
|
11 |
Пепкинский курган, п. 10 |
компакта бедренной кости |
0,715567 |
13 |
|
12 |
Пепкинский курган, п. 24 |
губчатая ткань тазовой кости |
0,720661 |
15 |
|
13 |
Пепкинский курган, п. 18 |
компакта бедренной кости |
0,718362 |
10 |
|
14 |
Пепкинский курган, п. 26 |
компакта бедренной кости |
0,723620 |
11 |
|
15 |
Пепкинский курган, п. 16 |
компакта плечевой кости |
0,715537 |
14 |
|
16 |
Пепкинский курган, п. 1 |
компакта бедренной кости |
0,722250 |
10 |
|
17 |
Пепкинский курган, п. 19 |
фрагмент тазовой кости |
0,716249 |
20 |
|
18 |
Пепкинский курган, п. 21 |
измельченная губчатая ткань из шейки бедра |
0,716892 |
12 |
|
19 |
Пепкинский курган, п. 1 |
первый моляр нижней челюсти |
0,710498 |
21 |
|
20 |
Пепкинский курган, п. 5 |
первый моляр верхней челюсти |
0,712874 |
18 |
|
21 |
Пепкинский курган, п. 15 |
клык нижней челюсти |
0,710469 |
21 |
|
22 |
Пепкинский курган, п. 26 |
второй резец нижней челюсти |
0,710624 |
18 |
|
Окончание таблицы 1 |
||||
|
23 |
Контрольный образец 1 |
почва, д. Усол, координаты: N 56° 22’ 59.72001473245” Е 46° 60188562316898”, высота –137 м |
0,726702 |
16 |
|
24 |
Контрольный образец 2 |
улитка из урочища Бардицы (пос. Юрино), координаты: N 56° 31’ 280997016347” Е 46° 350038317875, высота –52 м |
0,712991 |
13 |
|
25 |
Контрольный образец 3 |
улитка, д. Усол, берег Чебоксарского водохранилища, координаты: N 56° 24543473581051” Е 46° 65613061828617, высота над ур. м. 65 м |
0,709058 |
14 |
|
26 |
Контрольный образец 4 |
почва с Юринской стоянки эпохи бронзы, координаты: N 56° 28423525952659” Е 46° 3033664886475, высота над ур. м. 58 м |
0,723870 |
10 |
|
27 |
Контрольный образец 5 |
почва из основания Пепкинского кургана, высота над ур. м. 169 м |
0,728900 |
17 |
|
28 |
Подклетненский м-к, к. 57/33, п. 2 |
первый моляр верхней челюсти |
0,710644 |
16 |
|
29 |
Старший Никитинский могильник, раскоп 7, п. 8 |
первый моляр верхней челюсти |
0,710475 |
12 |
В качестве контрольных были использованы образцы почв и раковины улиток Gastropoda , собранные в 2017 г. в 5 местонахождениях Республики Мари Эл: в основании самого Пепкинского кургана, в деревне Усол, в урочище Барди-цы (пос. Юрино), на Юринской стоянке эпохи бронзы.
Кроме того, были получены первые данные о соотношении изотопов стронция в зубной эмали у представителей абашевской культуры, похороненных на других территориях – в Подклетненском и Старшем Никитинском могильниках. Подклет-ненский могильник оставлен носителями доно-волжской абашевской культуры, исследован А. Д. Пряхиным на северной окраине г. Воронежа. Старший Никитинский могильник относится к средневолжской абашевской культуре, исследован В. Ю. и Ю. В. Луньковыми. Расположен у с. Никитино в Спасском р-не Рязанской обл., в месте впадения р. Проня в Оку ( Ахмедов и др. , 2013).
Результаты
Детство пепкинских абашевцев
Как отмечалось выше, изотопные сигналы, определяемые в эмали постоянных зубов, отражают геохимическую ситуацию в период роста. В исследованной выборке из Пепкинского кургана соотношение изотопов стронция, типичное для местности проживания в детстве, удалось определить для 10 человек. Подавляющее большинство пепкинских абашевцев (индивидуумы № 13б, 4, 8, 21, 6, 1, 15, 26) провели детство (примерно первые десять лет) в сходных геохимических условиях, для которых был характерен диапазон значений в узких рамках 0,709–0,710.
Два человека – погребенные № 12 и 5 – демонстрируют повышенное значение показателя 87Sr/86Sr (0,7129–0,7130), означающее, что они провели детство в иных, более радиогенных условиях.
Отрочество и юность
Итак, № 12 вырос в радиогенной обстановке и, если опираться на результаты анализа образца его костной ткани, там же провел последние лет десять.
Индивидуумы № 1, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26 тоже провели последние годы в условиях окружающей среды, характеризующихся высокими значениями 87Sr/86Sr. Здесь выделяются особо высокими сигналами № 1, 26 и 24.
А вот индивидуум № 7, судя по изотопному сигналу в образце костной ткани – 0,710714, прожил последние годы в геохимических условиях, соответствующих местности, откуда за 10–15 лет до этого ушли большинство пепкинских абашевцев.
Наконец, индивидуум № 8 (кузнец-бронзолитейщик) последние годы жизни провел в совсем других условиях – скорее всего, на лессовой равнине, о чем говорит низкий изотопный сигнал (0,708), определенный в его костной ткани.
Изотопная характеристика контрольных образцов
Контрольные образцы почвы и раковины моллюсков были собраны на обоих берегах Волги, на возвышенностях и в низинной местности. В целом можно сделать вывод, что для этого региона Среднего Поволжья характерны очень высокие показатели соотношения изотопов стронция, достигающие максимальных значений по мере увеличения высоты над уровнем моря. Самый высокий изотопный сигнал зафиксирован в образце, взятом непосредственно у подножия Пепкинского кургана. Но и на другом берегу Волги высокое значение зафиксировано в месте Юринской стоянки. Значение, полученное для образца из урочища Бардицы, существенно ниже, хотя и относится к разряду радиогенных. Наконец, один образец с берега современного Чебоксарского водохранилища демонстрирует низкое значение изотопного сигнала.
Два контрольных образца зубной эмали абашевцев из бассейна Оки и Дона обнаруживают значения, идентичные тем, которые характерны для мест проживания в детском возрасте подавляющего большинства пепкинских мужчин.
Обсуждение
Сопоставление изотопных сигналов, характеризующих период детства, с контрольными образцами свидетельствует, что как минимум восемь человек из этой группы – «неместные» и выросли не на территории Среднего Поволжья. Впрочем, очень высокие изотопные сигналы, характеризующие условия проживания в отрочестве и юности, говорят о том, что одиннадцать человек, переселившись, провели это время жизни в этом поволжском регионе. Можно сделать вывод, что пищей для них служили животные, которые обитали в горных районах сегодняшней Мари Эл, поскольку именно контрольные образцы, взятые на возвышенностях, демонстрируют максимально высокие сигналы. Возможно, это были дикие животные, на которых охотились эти молодые мужчины. Также не исключено, что выпас скота осуществлялся на возвышенностях. В любом случае, употребление в пищу такого мяса объясняет очень высокое соотношение изотопов стронция в костной ткани у большинства пепкинцев. Изменение геохимических условий в юношестве по сравнению с детством можно видеть на примере «медного человека» № 21, который разделяет особенности этой, наиболее многочисленной группы. Сложно сказать, где был абашевский поселок, но, исходя из общих соображений, не исключено, что он был на берегу реки, противоположном Пепкинскому кургану, поскольку водная преграда в традициях многих народов символически отделяет место погребения от мира живых. Примечательно, что изотопный сигнал в почве, расположенной на другом берегу от кургана Юринской стоянки, очень высок и соответствует особенностям «взрослого» проживания пепкинских абашевцев.
Как отмечалось выше, в этой группе выделяются два молодых человека, выросшие отдельно от остальных (№ 12 и 5). Про одного из них, индивидуума № 12, удалось получить данные, свидетельствующие о стабильной геохимической обстановке на протяжении всей его жизни, а значит, об относительной «оседлости» этого человека. Похожий изотопный сигнал встречен при анализе контрольного образца из урочища Бардицы, также на другом берегу от Пепкинского кургана.
Как показали предшествующие исследования, кузнец-бронзолитейщик в раннем детстве не выделялся от своих соплеменников по уровню физиологических стрессов ( Добровольская, Медникова , 2011). Теперь благодаря изотопным исследованиям мы знаем, что он прожил этот период вместе с другими членами группы. Однако примерно с десятилетнего возраста он, в противоположность остальным, испытывал регулярные неблагоприятные воздействия, способствовавшие многократным задержкам роста. На рентгенограммах его трубчатых костей можно видеть последствия около 14 негативных эпизодов в виде так называемых линий Гарриса (Там же). Нами было высказано предположение, что эти события, повлиявшие на длину тела этого человека, равно как и невероятная гипертрофия костной ткани в месте прикрепления дельтовидной мышцы правой руки, связаны с очень ранней профессиональной специализацией. Напомню, что кузнец погиб в возрасте около 20 лет. Соотношение изотопов стронция в его костной ткани говорит о том, что с момента обучения ремеслу он отделился от основной группы и прожил годы в особых геохимических условиях.
Особенности метода не позволяют нам точно определить территорию, где с течением времени мог быть накоплен подобный сигнал. Например, ранее похожие, достаточно низкие показатели были встречены нами при рассмотрении серии образцов с городища Уфа, в том числе у пресноводного моллюска. Таким образом, кузнец мог прожить несколько последних лет своей жизни даже на Урале (но не в горах). Но незадолго до гибели он пришел в горный район в Среднем Поволжье и встретил смерть вместе с товарищами детства.
Большой интерес представляет публикация Р. А. Мимохода (2018), посвященная культурогенезу в Восточной Европе в конце III тыс. до н. э. и связи этого процесса с климатическими изменениями. Выделяя блок посткатакомбных культурных образований, этот автор подчеркивает, что аридизация климата на рубеже тысячелетий стала проявлением глобального евразийского климатического катаклизма, способствовав упадку культур колоколовидных кубков и распаду катакомбной общности (Мимоход, 2018. С. 43). Средневолжское Аба-шево Р. А. Мимоход рассматривает как центральноевропейскую, по сути, культуру и связывает ее появление с масштабной миграцией в результате импульса из Карпато-Балканского региона и Центральной Европы (Там же. С. 40, 41). В частности, он находит аналогии керамическому комплексу средневолжской абашевской культуры в морфологии и орнаментации посуды поздней фазы культуры колоколовидных кубков в Южной Германии.
По его мнению, распространение абашевских памятников в Поволжье связано с миграцией европейского населения, следы продвижения которого фиксируются на территориях Брянской, Московской и Ярославской областей ( Кренке , 2014; Луньков, Энговатова , 2003).
Исследованные нами контрольные образцы из Старшего Никитинского и Подклетненского могильников подтверждают гипотезу о приходе большинства абашевцев, погребенных в Пепкинском кургане, с западных территорий. Впрочем, остается вопрос хронологии, поскольку оба этих памятника традиционно рассматривались как более поздние по сравнению с абашевской культурой в Поволжье ( Луньков, Энговатова , 2003; Ахмедов и др. , 2013).
Заключение
Новые данные рисуют очень широкий «домашний ландшафт» средневолжского абашевского населения, расселявшегося на восток, но продолжавшего поддерживать контакты на обширной территории. В пользу этого предположения свидетельствует присутствие среди погребенных в Пепкинском кургане останков индивидуума № 7, незадолго до смерти пришедшего в Среднее Поволжье из «предковых» земель. Об этом же говорит факт воссоединения со своими родственниками и товарищами кузнеца-бронзолитейщика, погибшего с ними в одном сражении.
Результаты данной работы позволяют говорить о том, что идентичность аба-шевских мальчиков изменялась в 10–12 лет, когда они, по-видимому, становились в социальном отношении взрослыми и могли покидать родные места. Профессиональные становление и идентичность также обретались на протяжении подросткового возраста.
Благодарности
Автор пользуется случаем поблагодарить Евгения Геннадьевича Шалахова за неоценимую помощь в сборе контрольных образцов на территории Среднего Поволжья; Евгения Сергеевича Богомолова (ИГДМ РАН) за проведение масс-спектрометрического анализа.
Список литературы Как стать кузнецом? О мобильности абашевского населения по материалам Пепкинского кургана эпохи средней бронзы
- Ахмедов И. Р., Луньков В. Ю., Лунькова Ю. В., 2013. Абашевские комплексы Старшего Никитинского могильника (по материалам исследований 2002-2004 гг.)//КСИА. Вып. 230. C. 162-181.
- Афанасьев Г. Е., Добровольская М. В., Коробов Д. С., Решетова И. К., 2015. Новые археологические, антропологические и генетические аспекты в изучении донских алан//КСИА. № 237. С. 64-79.
- Добровольская М. В., Медникова М. Б., 2011. «Медные люди» эпохи бронзы: реконструкция состояния здоровья и социального статуса//АЭАЕ. № 2 (46). С. 143-156.
- Кренке Н. А., 2014. Абашевская находка в долине Москвы-реки//АП. Вып. 10/Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С.29-35.
- Луньков В. Ю., Энговатова А. В., 2003. Курганный могильник Орлово 1 (абашевская культура в Волго-Окском междуречье)//Абашевская культурно-историческая общность: истоки, развитие, наследие: материалы междунар. науч. конф. (Чебоксары, 26-30 мая 2003 г.)/Ред. О. В. Кузьмина. Чебоксары: Чувашский государственный институт гуманитарных наук. С. 193-197.
- Медникова М. Б., 2001. Трепанации у древних народов Евразии. М.: Научный мир. 304 с.
- Медникова М. Б., 2017а. Биоархеология детства в контексте раннеземледельческих культур Балкан, Кавказа и Ближнего Востока. M.: ИА РАН. 223 с.
- Медникова М. Б., 2017б. О мобильности энеолитического населения Балкан (по материалам РАскопок телля Юнаците в Болгарии)//РА. № 3. С. 5-19.
- Медникова М. Б., Добровольская М. В., 2008. «Медные люди» из курганов эпохи бронзы: к реконструкции профессиональной активности//Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. 1/Ред.: А. П. Деревянко, Н. А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 321-323.
- Медникова М. Б., Лебединская Г. В., 1999. Пепкинский курган: данные антропологии к реконструкции погребений//Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений/Отв. ред.: В. И. Гуляев, И. С. Каменецкий, В. С. Ольховский. М.: Восточная литература. С. 200-216.
- Медникова М. Б., Тарасова А. А., 2014. Опыт применения метода геометрической морфометрии в определении степени сходства и биологического родства погребенных в Пепкинском кургане эпохи средней бронзы//КСИА. Вып. 234. C. 338-353.
- Мимоход Р. А., 2018. Палеоклимат и культурогенез в Восточной Европе в конце III тыс. до н. э.//РА. № 2. С. 33-48.
- Халиков А. Х., Лебединская Г. В., Герасимова М. М., 1966. Пепкинский курган (Абашевский человек). ЙошкарОла: Марийское кн. изд-во. 48 с.
- Шишлина Н. И., Азаров Е. С., Дятлова Т. Д., Рослякова Н. В., Бачура О. П., ван дер Плихт Й., Калинин П. И., Идрисов И. А., Борисов А. В., 2018. Инновационные сезонные миграции и система жизнеобеспечения подвижных скотоводов в пустынно-степной зоне Евразии: роль социальных групп//SP. № 2. С. 69-90.
- Энговатова А. В., Добровольская М. В., Зайцева Г. И., Антипина Е. Е., Клещенко Е. А., Медникова М. Б., Тарасова А. А., Яворская Л. В., 2015. Естественно-научные методы в реконструкции системы питания и социальной стратификации населения средневекового европейского города//Естественно-научные методы исследования и парадигма современной археологии: материалы Всерос. науч. конф. (Москва, ИА РАН, 8-11 декабря 2015 г.)/Ред.: М. В. Добровольская, Е. Н. Черных. М.: Языки славянской культуры. С. 117-125.
- Bentley R. A., Price T. D., Stephan E., 2004. Determining the 'local' 87Sr/86Sr range for archaeological skeletons: a case study from Neolithic Europe//JAS. Vol. 31. Iss. 4. P. 365-375.
- Montgomery J., 2010. Passport from the past. Investigating human dispersals using strontium isotope analysis of tooth enamel//Annals of Human Biology. Vol. 37. Iss. 3. P. 325-346.
- Price T. D., Burton J. H., Fullagar P. D., Wright L. E., Buikstra J. E., Tiesler V., 2008. Strontium Isotopes and the Study of Human Mobility in Ancient Mesoamerica//Latin American Antiquity. Vol. 19. Iss. 2. P. 167-180.
- Sjögren K-G., Price T.D., Kristiansen K., 2016. Diet and Mobility in the Corded Ware of Central Europe//PLoSONE. Vol. 11. Iss. 5. e0155083.