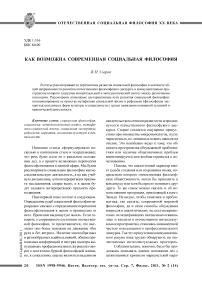Как возможна современная социальная философия
Автор: Сыров В.Н.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Отечественная социальная философия XX века
Статья в выпуске: 2 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются перспективы развития социальной философии в контексте об- щей направленности развития отечественного философского дискурса, в коммуникативном про- странстве которого затруднен концептуальный и методологический синтез между различными подходами. Рассмотрены возможные альтернативные пути развития социальной философии: позиционирование ее качестве метафизики социальной жизни и рефлексия (философская экс- пертиза) различных форм культуры и социальности с целью выявления оснований духовной и практической деятельности.
Социальная философия, социология, методологический синтез, метафизика социальной жизни, социальная экспертиза, рефлексия, нарратив, основания культуры и дея- тельности
Короткий адрес: https://sciup.org/14974447
IDR: 14974447 | УДК: 1:316
Текст научной статьи Как возможна современная социальная философия
Название статьи сформулировано несколько в кантовском стиле и подразумевает, что речь будет идти не о реальном положении дел, а о проекте возможных перспектив философствования в данной сфере. Мы будем рассматривать социальную философию как исследовательскую деятельность, а не как учебную дисциплину, хотя интерпретация предмета исследования, скорее всего, и в целом будет задавать интерпретацию предмета преподавания.
Наш первый тезис состоит в следующем. Определение судеб социальной философии неразрывно связано с определением перспектив философствования в целом и производно от него. Проясним выдвинутую мысль. Если говорить о современном состоянии отечественной философии, то представляется, что выглядит оно более похожим на движение «без руля и без ветрил». Наличие многообразных и разнообразных идейных веяний, обилие проводимых конференций и пестрая палитра выпускаемых профессиональных журналов говорят о достаточно бурной философской жизни, но, к сожалению, еще не являются надежным свидетельством степени развитости и продви-нутости отечественного философского дискурса. Скорее создается ощущение присутствия при множестве микромонологов, пусть эвристичных, но лишенных всяких шансов на отклик. Это неизбежно ведет к тому, что общность пространства обсуждаемой проблематики или наличие общезначимых проблем минимизируется или вообще стремится к исчезновению.
Похоже, что аналогичный характер имеет судьба создания или сохранения языка, посредством которого отечественная философская общественность могла бы приходить к консенсусу или хотя бы просто понимать друг друга. То же самое можно сказать и об использовании продукции, приходящей к нам с Запада. Не видно, чтобы тематика и проблематика, так сказать, современной мировой философии, да и сами способы обсуждения вопросов в аналитических ли, постмодернистских ли модификациях интенсивно осваивались и входили в отечественное интеллектуальное пространство, становясь имманентной частью повседневного профессионального дискурса. Так что присутствие коммуникативного разума пока трудно обнаружить на отечественных интеллектуальных просторах.
Соблазнительно, конечно, было бы продолжать связывать данное положение дел с затянувшимся кризисом марксистской пара- дигмы и отсутствием весомых альтернативных парадигм, обеспечивших бы новый концептуальный и методологический синтез. Это скорее следствие, чем причина. Представляется, что такой подход, хотя в отечественной социальной философии, наиболее связанной и даже конституированной наследием исторического материализма, он кажется очевидным, будет даже не сужать, а деформировать поиск эвристических перспектив. Движение именно в этом направлении напоминает что-то подобное попытке замены формационного подхода цивилизационным, подразумевая тем самым преодоление кризиса как замену одной метафизики другой.
Если не касаться институциональных аспектов, связанных с анализом организации профессиональной деятельности, то представляется, что причину идейного характера следует искать в диагнозе состояния современного философствования в целом. Сам по себе этот диагноз не оригинален и даже уже слегка архаичен, поскольку был поставлен еще в начале прошлого века. Другое дело, что вопрос, сохраняющий свою актуальность, заключается в том, какие следствия из него должны вытекать. Суть самого диагноза с подачи М. Хайдеггера можно назвать «кризисом метафизики», а задачу, вытекающую из него, – «преодолением метафизики». Как известно, великий немецкий мыслитель определил метафизику несколько поэтически, как «вопрошание сверх сущего, за его пределы, так, что мы получаем после этого сущее для понимания как таковое и в целом» [4, с. 24]. Соответственно кризис и осознание необходимости преодоления метафизики следует понимать как осознание ситуации, что у философии нет и в перспективе не предвидится ресурсов для постановки и обсуждения подобных вопросов, хотя бы потому, что все более кажется сомнительным сам факт определения объекта (мира в целом или мирового целого), по поводу которого такие вопросы можно было бы ставить. Известный теоретик постмодерна Ихаб Хассан в своем манифесте определил такую смену перспективы в подходах к пониманию реальности как реализацию принципа фрагментации [6, с. 19]. В этом контексте следует согласиться с известной мыслью Л. Витгенштейна, что результатом фи- лософии должны являться отнюдь не «философские предложения» [1, с. 24], если такие предложения притязают утверждать нечто о сущности мира, о трансцендентном, о первоосновах бытия и тому подобном. Если это так, то представляется сомнительной философская ценность любых сегодняшних попыток выстраивать метафизические системы или двигаться в этом направлении, поскольку проблематичной кажется сама возможность нахождения каких бы то ни было оснований и обоснований для их построения.
Это обстоятельство означает, что философии приходится спускаться с небес на землю. Но земля-то оказывается уже занятой, а именно изучение реальности весьма эффективно оккупируется наукой. Здесь позволим себе высказать второй тезис. Представляется, что ситуация, в которую попала именно социальная философия, является наиболее явным и ярким симптомом того положения дел, в котором находится в современном культурном и интеллектуальном пространстве философия в целом. Дело в том, что территория, которую традиционно занимала социальная философия, особенно в ее отечественном варианте, уже прочно и, похоже, надолго монополизирована социологией.
В результате возникает проблема, которая является не просто досадным обстоятельством, а приобретает стратегический характер, и с которой, кстати, практически сталкивается любой российский преподаватель при подготовке соответствующего курса. Проблема эта заключается в определении дальнейших перспектив социально-философских исследований. Очевидно, конечно, что социальная сфера должна быть существенным, если не первоочередным, предметом философского анализа. Вопрос в том, что такой философский анализ должен собой представлять. Иначе говоря, чем должен заниматься специалист, претендующий на статус социального философа. Наш следующий тезис состоит в том, что выбор ответа на него значим тем, что задает определение направления развития не только социальной философии, но и философии в целом.
Рассмотрим возможные альтернативы. Прежде всего представляется очевидным, что их прорабатывание в сложившейся ситу- ации возможно только в контексте проведения демаркационной линии с тематическим и проблемным полем социологии. К настоящему времени уже невозможно делать вид, что не существует концептуально проработанного и насыщенного процедурами верификации и фальсификации способа изучения социальной реальности, к тому же институционально оформленного.
Один из таких путей решения проблемы состоит в распределении степени теоретичности или абстрактности рассуждений о социуме как определяющем критерии разведения компетенций социологии и социальной философии. Подход этот можно назвать традиционным, поскольку он вытекает, так сказать, из классических представлений о целях и задачах философии. В итоге достаточно типичным, особенно в учебной литературе, остается определение предмета социальной философии как системы знания о наиболее общих закономерностях функционирования и развития общественной жизни, воспроизводятся рассуждения о задачах социальной философии, направленных на раскрытие сущности общества, характеристике его как части мира, отличающейся от иных его частей, но связанной с ними в единый мировой универсум. Философский подход к пониманию социума трактуется как перспектива интегрального взгляда на социальное бытие, как возможность стать системообразующей основой для всех социальных наук. Данные тезисы зачастую сопровождаются упреками в адрес социологии в неспособности ее к целостному пониманию действительности и в утрате философского осмысления человеческого бытия.
Рискнем утверждать, что движение в этом направлении при всех попытках скрупулезно и тщательно проговорить компетенции социальной философии, ее своеобразие и отличие от других сфер социального познания неизбежно заводит социально-философские исследования в тупик, из которого в принципе нет выхода. Почему? Попробуем сформулировать возможную аргументацию. Во-первых, весьма проблематично, если не просто невозможно, установить грань, где кончаются рассуждения одного уровня и начинаются положения другого уровня. Иначе говоря, где та разграничительная линия, при которой теоре- тичность социальной теории переходит в теоретичность социальной философии? Неужели степень абстрактности рассуждений об обществе одного из творцов социологического мейнстрима Т. Парсонса, к примеру, следует считать не возвысившейся до целостного видения социального бытия? А с другой стороны, не напоминают ли суждения о предмете социальной философии как поиске универсальных законов общественной жизни фактического возрождения старой доброй позитивистской традиции?
Во-вторых, что бы там ни говорилось в философии науки о соотношении фактов и теорий, любая теория, претендующая на описание реальности, предполагает наличие и применение весьма определенных процедур верификации и фальсификации теоретических высказываний (точнее говоря гипотез). Нормативность этого требования еще никто не отменял. Но находятся данные процедуры в компетенции социологии, и игнорировать это обстоятельство было бы демонстрацией дилетантизма со всеми вытекающими последствиями. Конечно, можно согласиться с суждением Э. Гидденса, «что социология не является “родовой” дисциплиной, занимающейся изучением человеческих обществ в целом; скорее она представляет собой отрасль социальной науки, которая концентрирует свое исследовательское внимание на “передовых” или современных обществах. Подобная научная характеристика подразумевает рациональное разделение труда и ничего более» [2, с. 10]. Нет нужды спорить с тезисом о том, что поле социальной теории шире, чем собственно социологическое поле. Но, тем не менее, бесспорно и другое. Обоснование притязаний любых социальных теорий на весомость и эвристичность требует применения процедур, относящихся к компетенции науки, а не философии.
Конечно, в контексте рассуждений самих социологов о кризисе социологической теории для социального философа соблазнительно было бы занять нишу творца таких теорий. Прецеденты имели место в развитии европейской мысли. Как отмечают исследователи, «желание прорваться через укоренившиеся барьеры и расширить горизонты дисциплины, до сих пор замкнутой на самой себе, нашло свое отражение в том факте, что философы, подобные Фуко и Дерриде, или светила из соседних дисциплин, подобные Лакану, стали центральными фигурами в дискурсе социальной теории» [7, p. 6]. Правда, итог оценивается наблюдателями как малопродуктивный. «Эти широкие перспективы не были дополнены теоретически оформленной и систематизированной попыткой перевести озарения, извлеченные из философии и других дисциплин, в рамки собственно социологической теории» [там же], поэтому все «закончилось теорети-зациями, которые мало используются эмпирически ориентированными социологами» [там же, p. 8]. Можно, конечно, утверждать, что невостребованность произведенной продукции будет лежать на совести у социологов или социальных теоретиков, но очевидным остается одно. Тот, кто стремится внести свой вклад в социальную теорию, должен играть на социологическом поле или на поле социальных наук в целом. Институционально он может оставаться философом, но функционально будет пребывать в научном лагере и оцениваться надлежащими критериями.
Соответственно в целях демаркации с социальными и социологическими теориями можно позиционировать социальную философию как метафизику социальной жизни, как предельно общий взгляд на общественное бытие. Но рискнем утверждать, и это в-третьих, что данное притязание обрекает ее на создание абстракций с сомнительной степенью эвристичности. Представляется, что сам тезис о функции социальной философии обеспечивать целостный или интегральный взгляд на социум более напоминает заклинание, являясь, так сказать, фигурой риторической, а не продуктивным теоретико-методологическим инструментом. Но даже если это не так, то, как справедливо подметил Н. Луман, «никакая тематизация общества не достигает... полной прозрачности мира» [3, c. 24]. Иначе говоря, попытка предельного обобщения либо будет напоминать стремление сказать последнее и окончательное слово в духе классической метафизики, либо просто сведется к набору положений, страдающих тривиальностью именно в силу своей предельной общности.
Еще один вариант определения места социальной философии заключается в возмож- ности занять нишу, которая по тем или иным причинам мало освоена самими социальными науками или не вмещается в их канон. Примером может являться типичная тематика англо-американских журналов по социальной философии, направленная на обсуждение вопросов, связанных с правами человека, перспективами демократии, глобализации, проблемами справедливости и т. д. Путь вполне перспективный, но концептуально опасный. Дело в том, что он обрекает социальную философию существовать, так сказать, по остаточному принципу, а именно играть роль теории в тех сферах и до тех пор, пока туда не добрались социальные науки. Собственно говоря, он представляет собой повторение пути, уже пройденного философией в целом, и означает завершение в классическом позитивистском духе в виде окончательной замены умозрительного философствования положительным знанием. Как следствие, такой подход, с одной стороны, предполагает, что тематика, освоенная социальными науками, должна быть предоставлена самой себе и выведена за рамки философского внимания, а с другой – оставляет нерешенным вопрос об идентичности самой социальной философии, о том, что должно составлять ее специфику и ее фундаментальные задачи помимо функции временно заполнять пустоты в изучении социального пространства.
Эти рассуждения не означают, что следует перечеркнуть наследие, накопленное и оставленное отечественными социальными философами. Мы полагаем, что в нынешних условиях все-таки лучше двигаться дальше, учитывая и осмысливая исторический опыт самой философии. Поэтому наш основной тезис состоит в том, что в поиске своей идентичности социальной философии следует отталкиваться отнюдь не от попыток найти свое место в пространстве теоретических упражнений по поводу устройства социальной реальности. По крайней мере, не с этого следует начать. Представляется, что размежевание с социальными науками и с социологией в первую очередь должно идти не по степени теоретичности рассуждений об обществе, а по разделению функций философии и науки. Это означает, что изучение мира во всем его многообразии следует предоставить науке, по- скольку все ресурсы для его изучения находятся только в ее компетенции.
Философии же следует обратиться к тому, что ей по силам и чем наука не занимается, поскольку считает вещью самоочевидной, да и не имеет для этого соответствующих инструментов. Говоря иначе, философии следует вернуться к тому, с чего она когда-то начинала, но в силу известных социально-культурных обстоятельств превратила вместо цели в средство. Представляется, что сутью философствования должно стать не построение всевозможных метафизических систем, а постоянная и кропотливая работа с теми или иными фрагментами культуры с целью выявления и критического рассмотрения скрытых, неявных оснований или предпосылок, на которые опираются или на которых базируются те или иные формы культурной и социальной жизни. Для обозначения таких предпосылок можно использовать старое доброе понятие онтологии. Саму процедуру их экспликации традиционно принято называть рефлексией, а в современной манере можно назвать философской экспертизой.
Как известно, опыт философского осмысления показал, что не существует внепредпо-сылочных форм духовной и практической деятельности. Поэтому в любой форме человеческой активности мы можем и должны выявлять те принципы, основания, условия, которые ее предопределяют, но которые ее носителями могут не осознаваться или даже эксплицитно отрицаться. Так, индивид (или сообщество) может искренне верить, что занимается наукой, хотя, по сути, порождает всего лишь мифы. Если это так, то для философии открывается поистине необъятное пространство для деятельности.
Отметим при этом, что выявление того, что было названо предпосылками, не означает поиска исторических обстоятельств их возникновения. Провозгласить, что современная мораль индустриальной цивилизации отнюдь не является выражением общечеловеческой природы, а имеет иудео-христианское происхождение, еще не значит осуществить процедуру философской рефлексии. Философия должна выявлять не историко-культурные условия возникновения тех или иных форм жизни (это дело соответствующих наук), а те прин- ципы, на которых они базируются или базировались.
Соответственно и процедура рефлексии будет и должна носить характер строгого метода, а не описания простой совокупности психологических состояний и переживаний, связанных с обращенностью, так сказать, к себе, а не к миру. Поэтому можно свести ее к последовательности четырех следующих операций. Началом явится процедура, для которой уместно наименование «дистанцирования», а именно мысленное отстранение от какого-либо предмета или превращение известного в неизвестное, знакомого в незнакомое, своего в чужое. Ведь недаром основатели философии говорили, что она начинается с удивления, а сам опыт переживания состояния отчуждения привычного был хорошо описан экзистенциалистами. Следующим шагом станет выявление оснований, то есть тех самых общих принципов или предпосылок, на которые опираются те или иные конкретные представления о конкретных предметах, но которые могут не осознаваться их носителями в силу их убежденности в естественности и самоочевидности этих представлений. Очевидно, конечно, что экспликация данных предпосылок имеет смысл только тогда, когда наличные формы жизни, на которые они опираются, перестают нас удовлетворять. Поэтому последующей логически необходимой процедурой должна стать операция критики выявленных оснований, задача которой – показать, что данные основания или принципы не отражают полноты и многообразия реальности, а формируют узкий горизонт видения мира или выражают пристрастия, интересы (не обязательно осознанные) тех или иных групп общества и их стремление выдать частный интерес за общий. Ну и наконец критическая установка открывает перспективу для поиска и формулировки новых оснований, то есть принципов, которые могли бы носить более универсальный характер, а именно расширять наш горизонт видения и понимания мира. Последнее можно назвать формированием способности правильно определять свои собственные границы и возможности, а значит, и умения ставить цели, им адекватные.
Если применить вышеописанные рассуждения к определению задач социальной фило- софии, то можно утверждать, что предметом ее деятельности должно стать выявление и критический анализ оснований, на которых покоится социальное знание, а объектом рефлексии – дискурс социальных наук. Таким образом, повышать степень рефлексивности социальных теорий, вскрывая неосознанные или замаскированные предпосылки, на которые они опираются, а не пытаться конкурировать с ними в степени глубины осмысления самого социального пространства, вот в чем, как представляется, должно состоять предназначение социальной философии именно как философии. По крайней мере, данная установка может стать опорным пунктом в ее самоидентификации. Смеем утверждать, что стратегически путь, связанный с рефлексивной деятельностью, единственно конструктивный и для философии в целом. А с этой точки зрения выбор, который в первую очередь надлежит сделать социальной философии в силу наличия явной социологической альтернативы, может стать хорошим образцом для определения общефилософских перспектив.
Каковы возможные следствия сделанного выбора? Прежде всего, стоит предполагать, что такая и только такая перспектива позволяет социально-философскому дискурсу преодолеть собственную эзотеричность, замкнутость на самом себе и вступить, наконец, на путь продуктивного диалога с социальными науками, а в первую очередь с социологией. Ведь стремление скорее освободиться от догматически истолкованного марксизма в отечественном интеллектуальном пространстве превратилось в стремление социальных наук дистанцироваться от философии как таковой. Представляется, что только рефлексивная деятельность, а не рассуждения о всеобщей теории, рождающие у научного сообщества справедливые подозрения в бесплодных умозрительных построениях, в состоянии возобновить контакты философов и социологов. Конечно, это будет требовать от социального философа хорошего знания социологических теорий. Поэтому современная философская подготовка предполагает профессиональное владение и оперирование не только философским словарем, но и словарем той дисциплины, которая станет объектом философской рефлексии. Но необходимо это не для того, чтобы предложить еще одну теорию к имеющемуся инвентарю, а для того, чтобы эксплицировать и критически проанализировать предпосылки, на которые опираются существующие теории. Нет нужды специально говорить о том, что такой путь позволит не только восстановить коммуникативные отношения философского и научного сообществ, но и обеспечит столь долгожданную конкретность философской мысли.
Очевидно, что в таком контексте доминирующим навыком для философа должно стать не умение спекулятивно мыслить, воспаряя к трансцендентному, а развитие навыков чтения, которое в нарратологии принято называть симптоматическим [5, p. 97–100]. Данный тип чтения предполагает, что роль читателя должна состоять не в том, чтобы реконструировать замысел автора, а в том, чтобы обнаружить несказанное, невысказанное или недосказанное им в тексте. Иначе говоря, философское чтение есть умение читать между строк, открывая присутствие значимых следов той онтологии и эпистемологии, которой фактически придерживается автор, даже если явно заявляет противоположное. Представляется, что именно этот путь позволяет социальному философу сохранять пространство его профессиональной компетентности и в то же время быть продуктивным участником игры на социологическом поле (ну и на поле социальных наук в целом). В противном случае мы будем в очередной раз иметь дело с двумя параллельными изолированными друг от друга интеллектуальными потоками, полными к тому же взаимных упреков и взаимного непонимания.
Мы не случайно сосредоточились на социологии, поскольку, как неоднократно подчеркивали выше, размежевание с ней наиболее актуально для социальной философии. Поэтому социологический дискурс, как представляется, должен стать первоочередным объектом философской рефлексии. Логично предположить, что такая рефлексия могла бы дать следующие результаты. Возможно, что она заставила бы нас отчетливо осознать, что сама социология как научная дисциплина представляет собой грандиозный мировоззренческий, идеологический и концептуальный, но западный проект. Суть, конечно, не в том, что нам намеренно навязывают определенное ви- дение реальности, а потому в качестве альтернативы нужна особая национальная социология. Дело в отчетливом осознании того, что структура научного знания, канонизированная, в частности, в учебных пособиях, выражает или может выражать ценности определенной культуры, а значит, обслуживать именно ее потребности. Как следствие, такая рефлексия поможет нам понять, что механический перенос, пусть с благими целями, тематики и проблематики, сложившейся и эвристичной в ином культурном пространстве, вряд ли может способствовать продуктивному видению и пониманию самих себя.
Логично предположить, что направленность на реализацию рефлексивной функции будет способствовать как теоретическому, так и мировоззренческому самоопределению самой социальной философии. С теоретической точки зрения, как говорилось выше, она позволяет прочно занять свою нишу в современном профессионально структурированном и дисциплинарно монополизированном пространстве. Более того, она дает надежные основания уже для целенаправленного и разностороннего, а не спорадического осуществления взаимодействия с социальными науками. Проясним данную мысль. Очевидно, конечно, что социологический дискурс не охватывает всей полноты социальной тематики и проблематики. Это, помимо прочего, и должна показать философская рефлексия. Такое обнаружение незаполненных ниш будет давать право социальному философу выступить и в роли творца социальной теории, но уже не для того, чтобы найти хоть какое-нибудь место применения своих навыков, а для того, чтобы целенаправленно привлечь разнообразные интеллектуальные ресурсы для обсуждения вопросов, значимых, но не эксплицированных. Данный подход правомерно назвать нормативным в дополнение к критическому выявлению в той или иной социальной теории симптомов присутствия той или иной онтологии. Правда, нормативность следует рассматривать не в смысле претензии на единственно верное понимание социальной реальности, а в смысле предложения возможного проекта для широкого всестороннего обсуждения, более связанного с описанием продуктивных оснований для построения такой теории. Кстати, возможно, что именно в таком и только в таком контексте правомерна весьма распространенная мысль о разграничении сфер деятельности социальной философии и социальных наук по принципу должное-сущее.
Вполне вероятна и даже ожидаема ситуация, что коммерциализация и прагматизация высшего образования будут способствовать вымыванию теоретизирования из сферы приоритетов профессиональной деятельности, особенно в социологии. Это обстоятельство, конечно, может снова вернуть социальную философию в положение единственного хранителя теоретической мысли. Правда, такое состояние дел следует считать результатом не логики развития социально-теоретической мысли, а специфических социально-культурных обстоятельств.
Что касается мировоззренческого плана, то, как представляется, он прямо связан с перспективами развития социально-философских исследований в России. Возможно, что естественно-научное и техническое знание космополитично по своей природе, но, похоже, что в социально-гуманитарном знании всегда останется неустранимый локальный остаток. Ведь именно знание данного рода призвано помочь нам понимать и преобразовывать самих себя, а потому, кстати, в отличие от естественных и технических знаний, должно быть доступным для понимания любому, кто считает себя гражданином. Поэтому проблемы, которые оно ставит и призывает обсудить, могут и должны быть только исторически, культурно и территориально конкретными. Именно осознание того, в какой степени социология, а возможно, дискурс социальных наук в целом, сохраняет черты западного проекта, продуктивно еще и тем, что должно позволить нам понять, как правильно распорядиться как имеющимся отечественным наследством, так и ресурсом англо-саксонской и континентальной традиции, разобравшись, что в нем нужно и что своевременно. Поистине только всмотревшись в иное поймешь себя. В этом смысле наращивание рефлексивности следует считать единственно возможным путем продуктивного самоопределения социальной философии как сферы философствования, призванной обслуживать потребности и запросы определенного общества в определенном месте и в определенное время.
Список литературы Как возможна современная социальная философия
- Витгенштейн, Л. Логико-философский трактат/Л. Витгенштейн//Л. Витгенштейн. Философские работы. Ч. 1. -М.: Гнозис, 1994. -С. 5-73.
- Гидденс, Э. Устроение общества: очерк теории структурации/Э. Гидденс. -М.: Академический проект, 2005. -528 с.
- Луман, Н. Самоописания/Н. Луман. -М.: Логос: Гнозис, 2009. -320 с.
- Хайдеггер, М. Что такое метафизика?/М. Хайдеггер//М. Хайдеггер. Время и бытие: статьи и выступления. -М.: Республика, 1993. -С. 16-27.
- Abbot, P. H. The Cambridge Introduction to Narrative/P. H. Abbot. -Cambridge University Press, 2002. -203 р.
- Hassan, I. Pluralism in Postmodern Perspective/I. Hassan//Exploring Postmodernism/ed. by M. Calinescu and D. Fokkema. -John Benjamins Publishing Company, 1987. -P. 17-40.
- Mouzelis, N. Sociological Theory: what went wrong?/N. Mouzelis. -Routledge, 1995. -220 р.